


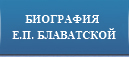
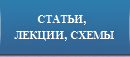
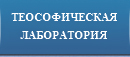

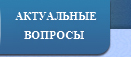
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Е.П.Блаватская Письма А.П.Синнетту
Письма 41-50
[1884 г.] Копия письма, пересылаемого через Олькотта. Пожалуйста, откорректируйте его. Я настроена возбудить из-за него дело против Куломбов.
Ходжсону, эсквайру. Сэр! Я всегда считала, что, по английскому закону, до тех пор пока законным путем не доказано, что некто является виновным, этот некто считается невиновным, а также, что односторонние свидетельские показания — особенно явных врагов — могут быть не приняты во внимание даже в суде. Вы, видимо, действуете согласно другим принципам и вольны поступать, как хотите. Что же касается вопроса о феноменах, то меня мало заботит, назовут ли меня в «Отчете О[бщества] п[сихических] и[сследований]» мошенницей и лгуньей в 20 раз больше или нет. Хотя я и сомневаюсь в истинности и благородстве Ваших обо мне заявлений, а также ожидаю, что Вы заранее повесите на меня все эти ярлыки для Ваших мадрасских знакомых, однако, это мне совершенно безразлично. Но Вы пошли дальше. На днях на обеде у м-ра Гарстина Вы отзывались обо мне как о «русской шпионке». Вы отстаивали это утверждение, несмотря на смех и возражения м-ра Хьюма, а также м-ра [Оукли] и миссис К[упер]-О[укли], так серьезно и с такой настойчивостью, что для меня становится чрезвычайно важным публично доказать, являюсь ли я «шпионкой» или нет. А так как я ручаюсь, что ни один смертный не представит веского доказательства, что я когда-либо написала хоть одну строчку российскому правительству или нечто подобное от него получила за последние 15 лет, когда у меня было американское гражданство, и что я так же, как, может быть, и Вы, лояльна к британскому правительству, то я имею все основания обратиться с ходатайством в суд и потребовать Вашего ареста за низкую и опасную клевету, если бы не три нижеследующих обстоятельства: 1) Вы друг семейства Оукли, которых я люблю и уважаю и предпочла бы избежать их привлечения в качестве невольных свидетелей. 2) Всего две недели назад я чувствовала искреннее расположение к Вам, кого считала человеком беспристрастным и справедливым. 3) Люди могли бы и наверняка сказали бы, что это было местью за то, что Вы «меня разоблачили» и выставили «законченной мошенницей», как Вы сами выражаетесь. И прошу Вас, не вообразите даже на секунду, что кто-то передал мне Ваши обвинения и разговоры у м-ра Гарстина. Мне известно каждое слово, что было произнесено за столом благодаря той моей способности, которая известна и не может отрицаться даже вашим О.П.И. Я благодарю Вас также и за еще один камешек в огород ни в чем не повинной, и притом в ее отсутствие, женщины, которая никогда не причинила Вам никакого зла, а именно за слова о том, что Вы считаете ее женщиной, способной на любое преступление. Вы лично можете считать меня кем угодно, но не имеете никакого права высказывать клеветнические измышления публично. Однако, может статься, я рассчитываю получить письменное и за Вашей подписью изложение всего того, что Вы услышали от Куломбов по поводу моей принадлежности к шпионам, что и привело Вас к подобному заключению. Я также попрошу у Вас описание документа или документов, которые она [мадам Куломб] Вам показывала, ибо на этот раз я намерена подать на нее в суд и положить конец подобной низости. Это дело серьезное, м-р Ходжсон, и именно Вы заставили меня поступить подобным образом. Ваша Е.П.Б[лаватская].
16 июня Дорогие миссис и мисс Арундейл! Если бы у нас были дюжины две таких, как вы обе, и дюжина таких, как Синнетт, — Учителя уже давно были бы с вами и Обществом. Я разбираюсь в том, о чем говорю, более того — я знаю это. Слушайте: постарайтесь насколько сможете сильно разобщить Лондонскую ложу со штаб-квартирой. По существу вы можете быть — едины. Стремитесь стать двумя в отношении руководства. Карма идет своим чередом. И мы ничего не можем поделать. Но невинные и искренние не должны страдать за виновных и лживых. И, дорогие мои, как же много у нас изменников и предателей всех цветов и оттенков в самом сердце Общества! Честолюбие — страшный советчик! Покажите это м-ру Синнетту. Ему бы, честно говоря, «поддать страсти» в своей работе, а не только в проявлении интереса к Обществу. Пусть, не колеблясь, при необходимости жертвует — друзьями, и мной в том числе. Олькотт превращается в переполненного тщеславием болтуна. Но не вините его. Он попал под влияние того, кто стал для него тем, кем обычно в прошлом бывала я. Несмотря на свою большую бороду, он ужасно обидчив. Я жалею и люблю его как и прежде. Он бросает обвинение мне одной — забывая свой показ Будды, свою глупую болтовню, забивающую голову психистов феноменами, и т.д. Учитель никогда не станет презирать его, ибо никто в этом мире не будет работать столь преданно и бескорыстно, как это делал он. Но зачем же нужно Лондонской ложе, мозговому центру Т[еософского] О[бщества], мучиться и подвергаться риску распадения из-за бурных биений его сердца — адьярской штаб-квартиры? Такие, как Субба Роу — бескомпромиссные посвященные брамины, никогда не раскроют даже то, на что им дано разрешение. За это они так сильно и ненавидят европейцев. Разве он на полном серьезе не сообщил м-ру [Оукли] и миссис К[упер]-О[укли], что отныне я «представляю собой оболочку, которую покинули и от которой отказались Учителя»? Когда же я попеняла ему за это, он ответил: «Вы были виновны в самых ужасных преступлениях. Вы раскрыли тайны оккультизма — самые священные и самые сокрытые. Скорее следовало бы принести в жертву Вас, чем раскрыть то, что никоим образом не предназначалось для европейских умов. Люди слишком сильно верили в Вас. Пришло время заронить в их сознание искру сомнения. Иначе они выкачали бы из Вас всё, что Вы знаете». И теперь он действует по этому принципу. Прошу Вас, дайте знать об этом м-ру Синнетту. Остаюсь всё так же навсегда Ваша Е.П.Блаватская.
Воскресенье, 17 мая [1885 г.] Торре-дель-Греко [Неаполь] Дражайший Мохини! Вы можете показать это письмо или сообщить м-ру Синнетту следующее. Габорьо умолил меня представить его в качестве челы Махатме К.Х. или моему Учителю, и первый принял его на испытание. А значит, он был челой, и нельзя истолковывать как ложь мои слова м-ру Синнетту о том, что «Учителя имеют чел повсюду». В тот момент, как много раз до и после этого, я приняла решение больше не вмешиваться в пересылку писем от Махатм. Если бы только Учитель позволил мне осуществить это решение, я, вероятно, не жила бы здесь изгнанницей и не погибала бы вдали от Индии! Но Он запретил мне это, заявив, однако, что я могла бы посылать письма Махатмы К.Х. через какого-нибудь другого челу, раз уж я оказалась столь малодушной. Затем Д[жуал] К[ул] пытался поставить эксперимент на м-ре Синнетте, чтобы выяснить, сумел бы он внушить тому идею ехать через Францию, и заявлял: «Хочу посмотреть, смогу ли я свести этих двоих вместе (имея в виду Синнетта и Габорьо). Габорьо чрезвычайно восприимчив и медиумичен, и мне, возможно, удастся чему-нибудь его научить, хотя боюсь, что он просто дурак». Это натолкнуло меня на мысль: 1) что м-ру Синнетту могли внушить намерение остановиться в Нанте и 2) что я в любом случае попрошу его препроводить это письмо в Лондон и таким образом отделаюсь хотя бы от одного письма, — и я передала его через Габорьо. Опыт не удался. М-р Синнетт не очень восприимчив и отправился по какой-то другой дороге. Я не пыталась сбить его с пути ни тогда, ни когда-либо еще. Я просто хранила молчание, как и во многих других феноменальных и полуфеноменальных случаях, имеющих отношение к полученным им письмам. Он же, подходя к оккультизму с мерками повседневной жизни и с присущими ей нормами, не делает различий между умышленной ложью и сильным желанием или, скорее, печальной необходимостью утаивать некоторые факты. Когда он заявил мне, что получил письмо из Нанта (это забавно), я пришла в жуткое замешательство и поняла, что Дж[уал] Кул потерпел неудачу, о которой мне ничего не сообщил. Я просто сказала «Неужели?», и эти слова о челах, существующих повсюду, он в точности передал Вам, не считая того, что я воспользовалась ими в письме, в чем у меня нет никакой уверенности. Доказательство отсутствия у меня желания вводить его в заблуждение как раз и заключается в том, что я никогда не просила Габорьо делать из этого тайну. Он был челой, а исключили его только во время подготовки к отплытию в Адьяр, когда ему не позволили туда отправиться по причине признания его совершенным тупицей. Если м-р Синнетт каждый раз в подобных обстоятельствах будет усматривать мою вину и нечестность, тогда — ибо теперь я говорю ему напрямик, что существуют сотни вещей, которые я вынужденно от него скрывала, — он волен полностью вычеркнуть меня и даже мое существование из своей жизни. Я никогда не обманывала его, не сбивала с толку и не подводила. Я старалась сделать всё возможное, чтобы стать ему полезной, и за мою нынешнюю неудачу и якобы крах Т[еософского] О[бщества] надо поблагодарить его независимый образ мышления, тот способ, каким он навязывал оккультизм и его тайны, публикуя обе свои книги, не считаясь с тем, что общество не подготовлено и погрязло в предрассудках. Если бы сведения о феноменах и Учителях были предназначены только для теософов и свято ими охранялись, всего этого не случилось бы. Но это моя вина, равно как и его. В своем рвении и преданности делу я допустила открытость и, как правильно заявляет Субба Роу, «совершила преступление, разгласив самое сокровенное и святое, что ранее не было известно непосвященным», — и вот начинает действовать моя карма. Я всегда видела в м-ре Синнетте самого преданного и полезного члена нашего Общества, сообщала ему то, о чем никогда не говорила даже Олькотту, но всё же не могла раскрыть ему всего. Раз Махатма К.Х. заверяет, что его не покинул и так же, как всегда, к нему расположен, что ему еще надо? Они могут, если захотят, найти другие — помимо меня — каналы общения с ним. Пусть выкинет меня из своей жизни как вконец пропащую и откажется от меня, как и многие другие, именно теперь, когда я погибаю из-за следствий симлских причин. Я сделала всё возможное, больше не в состоянии быть ему полезной и прошу только об одном: чтобы меня, подобно шелудивому псу, бросили спокойно и в одиночестве подыхать в своем углу. Да благословят и защитят всех вас Учителя, и да будут известны мои страдания и муки, возможно, лишь одним Учителям — приносите известную пользу Обществу и помогите ему начать новую жизнь. Но если окажется, что все эти страдания пропали даром, значит, Т[еософское] О[бщество] обречено и основание его было преждевременным. Ваша до последнего часа Е.П.Б[лаватская].
21 июня [1885 г.] Торре-дель-Греко [Неаполь] Отель «Везувий» Моя дорогая миссис Синнетт! Так приятен вид Вашего знакомого почерка, а содержание письма и того больше! Нет, дорогая миссис Синнетт, мне никогда не приходило в голову, что Вы хоть раз могли поверить в то, что я занималась трюкачеством, в котором меня теперь и обвиняют, — ни Вы, ни кто-либо из тех, кто хранят Учителей в своих сердцах, а не только в сознании. И тем не менее вот я перед Вами, стою обвешанная обвинениями, не имея никаких средств доказать обратное, — в самом грязном и гнусном мошенничестве, на какое когда-либо был способен полуголодный медиум. Что я могу и что я должна делать? Не имеет никакого смысла ни писать, дабы убедить кого-то, ни пытаться спорить с теми, кто вбили себе в голову считать меня виновной, чтобы изменить их мнение. Пусть будет так. Горючее в моем сердце сожжено до последнего атома. И впредь уже ничего не отыщешь в нем, кроме холодного пепла. Я столько страдала, что больше просто не в состоянии — и теперь только смеюсь над каждым новым обвинением. «Несмотря на заключение специалистов», говорите Вы. Да уж, они, должно быть, знамениты, эти эксперты, которые сочли подлинными письма Куломбов. Весь мир может склониться пред их решением и проницательностью; но есть в этом огромном мире, по крайней мере, один человек, кого они никогда не смогут убедить, что эти дурацкие письма были написаны мною, и этот человек — Е.П.Блаватская. Если бы даже Бог Израиля и Моисей, Магомет и все пророки, да еще Иисус и Дева Мария впридачу пришли и сказали мне, что я написала хоть одну строчку из этих постыдных указаний Куломбам, — я бы заявила им прямо в лицо: «Вздор! Не писала». Теперь [будьте] повнимательней, мне нужно, чтобы Вам стали известны эти факты. До сегодняшнего дня мне ни разу не было позволено увидеть хотя бы одно из этих писем. Почему м-р Ходжсон не мог прийти и показать, по крайней мере, одно письмо. Подозреваю, что некоторые из них он привез в Лондон — иначе как могла бы состояться та самая экспертиза? Ну почему он никогда не показывал мне ни одного письма в Адьяре? А теперь враг, твердо уверенный в своей безнаказанности, явился на свет Божий с еще б'ольшим количеством писем, и притом еще более поразительных. Оставляю судить об этом Вам и всем вашим. Имеется письмо, видимо, предъявленное, которое они пока еще не осмелились опубликовать, но содержание его кратко передано Паттерсоном в апрельском номере «С[eylon] С[atholic] М[essenger]». Там, а еще и словесно, меня обвиняют в написании в 1880 году письма Куломбам, а они тогда были на Цейлоне, в котором мои слова явно доказывают, что с 1852 по 1872 год я двадцать с лишним лет посвящала свое время чему-то иному вместо приобретения знаний в оккультизме. Да кто же теперь поверит (хотя в мое жульничество с феноменами должна была поверить вся Вселенная), что в 1880 г. я, находясь в Бомбее и думая только, как доказать существование Учителей, настроилась на осуществление своих планов с подлогом — если бы у меня был хоть один, — уже вполне созревших, и что мне приспичило написать такое письмо некоей особе, кого за 8 лет до этого я едва знала, кто была не моим другом, а лишь случайной знакомой, с которой я, уехав в 1871 году из Каира, никогда не поддерживала никаких связей и само имя которой я благополучно забыла! В том пакостном письме я тем не менее якобы заявляла, что покинула своего мужа, полюбила и сожительствовала с неким мужчиной (чья жена была моей ближайшей подругой и умерла в 1870 году — человеком, который и сам скончался через год после жены и был мною похоронен в Александрии) и ИМЕЛА трех детей от него и от других!!! (так), и т.д., и т.п., завершив все эти признания просьбами не рассказывать обо мне ничего, потому что ведь она меня знает, и т.д.; весь текст был составлен с целью показать, что я никогда не знала Учителей, никогда не была в Тибете и оказалась попросту самозванкой. Оспаривать всё это — только зря терять время. У тех, кто сочли опубликованные письма подлинными, нет оснований не верить этому, и если в этом мире существуют такие глупцы или люди, настолько хитрые, чтобы играть роль глупцов, которые могут вообразить меня способной написать подобное самоубийственное признание такого рода женщине, совершенно мне чужой, если не считать тех нескольких недель моего с ней шапочного знакомства в Каире, — ну что ж, эти люди вольны поступать подобным образом. И во всё это впутаны еще и Учителя, а я, принявшая решение скорее умереть тысячью смертей, чем произнести Их имена или ответить в суде на заданные о Них вопросы, — что я могу тут поделать? Ах, миссис Синнетт, интриганы оказались слишком коварными, слишком ловкими для Т[еософского] О[бщества] и особенно для меня. Она — эта дьяволица — отлично знала, что я не буду и не смогу защищаться в суде из-за того, что все обвинения меня и моих друзей и вся моя жизнь сокровенно связаны с Махатмами. И подумать только, как это меня угораздило оказаться такой дурой, чтобы какое-то время воображать, что в Индии это устроено, как в России, — что я могла бы отказаться отвечать на вопросы, касающиеся вещей, слишком для меня священных, чтобы обсуждать их при всем честн'ом народе? Я никак не подозревала, что судья может, если сочтет это нужным, приговорить меня к тюремному заключению за неуважение к суду, хотя я всего лишь ответила на все мерзкие вопросы об Учителях, которые заготовили падре. А я-то скандалила и шумно требовала, чтобы мне позволили пойти в суд, дабы покарать злодеев и доказать их лживость. Теперь я поумнела. И на собственном опыте поняла, что ни справедливости, ни правды, ни милосердия не существует для тех, кто отказывается следовать проторенными путями. Я поняла в целом масштаб и значимость тайного заговора против веры в Махатм; это был вопрос жизни и смерти для миссионерских групп в Индии, и они полагали, что, уничтожив меня, они уничтожат и теософию. И это им почти удалось. Они весьма преуспели в одурачивании Хьюма и Общества психических исследований. Несчастный Майерс! И еще более несчастный Ходжсон! Как ужасно посмеются над ними в один прекрасный день! En attendant [В ожидании — (фр.)] они, видимо, займутся смешиванием меня с грязью. Воистину психические исследования! Скорее, «исследования Ходжсона»! Но, умоляю, объясните мне! Законное ли это дело в Англии — публично обвинять, хотя бы даже и подметальщика улиц, в его отсутствие? не давая ему возможности сказать хотя бы одно слово в свою защиту? не позволяя ему узнать даже то, в чем его, собственно, обвиняют и кто именно выступает в качестве обвинителя и представлен главным свидетелем? Ибо я просто не представляю, чт'о на всё это можно сказать. Ходжсон прибыл в Адьяр, где его приняли как друга, он всех, кого только пожелал, подверг допросу и перекрестному допросу; а бои — (слуги-индусы) в Адьяре сообщили ему всю необходимую информацию. И если теперь он в их показаниях обнаруживает расхождения и противоречия, то это всего лишь доказывает, что все они, полагая чистой нелепостью (с их точки зрения) сомневаться в феноменах и Учителях, не подготовились к этому научному перекрестному допросу и, возможно, запамятовали многие обстоятельства; короче говоря, не чувствуя вины и не будучи ни моими сообщниками, ни жертвами моего обмана, они не отрепетировали, что должны говорить, а поэтому, весьма вероятно, у них — с их предубежденностью — возникли вполне обоснованные подозрения. Но вся неприятность для нас состоит в том, что первое время мы никогда не смотрели на м-ра Ходжсона как на предубежденного судью. Совсем наоборот. Итак, я стала первой, кто должна была понести наказание за свою уверенность в его справедливости. Подумать только, что пока я лежала прикованной к своему смертному ложу, он ежедневно на правах друга приходил к Оукли, обедал в штаб-квартире, каждый день меня оскорблял, поливал грязью и предавал в их присутствии, а я до конца так и не знала истинного положения дел! Спросите его: ставил ли он хоть раз меня лицом к лицу с моими обвинителями? Пытался ли он когда-либо узнать хоть что-нибудь от меня или дал ли мне возможность защититься или что-то объяснить? Никогда. С самого первого дня он вел себя так, как если бы в моей виновности не существовало ни тени сомнения. Он смотрел на меня как на предателя и поступал не как подобает задающему вопросы порядочному человеку, а как государственный обвинитель, главный прокурор или как там называется его титул по юридической терминологии. Теперь полюбуйтесь-ка на результаты! Ведь это же просто отвратительно, тошнотворно смотреть, как он играл на руку разным падре, а падре — ему. О моя пророческая душа! Воистину я предвидела всё это в Лондоне. Ну, довольно. Всё это дело прошлое. Consumm atum est! [Свершилось — (лат.)] Итак, я здесь. Куда я поеду в следующий раз, мне известно не более чем любому свалившемуся с луны. И единственные друзья, которые у меня есть и в жизни и в смерти, — это бедный, славный изгнанник Боваджи Д. Натх в Европе и несчастный дорогой Дамодар в Тибете. Д.Натх неотлучно сидит в ногах моей кровати и по целым ночам не спит, гипнотизируя меня, как предписано его Учителем. И зачем только Им нужно оставлять меня пока в живых — вопрос слишком для меня странный и пониманию моему явно не доступен; но ведь Их пути есть и всегда были — неисповедимы. Что теперь от меня пользы делу? Облитая грязью, оплеванная, вызывающая сомнения и подозрения всей Вселенной, за очень малым исключением, — разве я не принесу больше пользы Т[еософскому] О[бществу] умерев, чем продолжая жить? Но всё равно будет по-Их, а не по-моему. Ваша в жизни и всегда Е.П.Б[лаватская].
23 июля [1885 г.] Торре-дель-Греко [Неаполь] Моя дорогая миссис Синнетт! Не содрогайтесь при виде этой «скатерти». В последнее время у меня сильно ослабло зрение и так дрожат руки, что, как мне почему-то кажется, писать письма мне проще на больших листах бумаги. Надеюсь, Вы простите меня за задержку моего ответа более чем на неделю; просто мне пришлось закончить работу для газет, а делать это я была вынуждена ради презренного металла и барышей, ибо теперь на моей шее еще и бедная Мэри Флинн и Боваджи, так что мне приходится работать, добывая средства к существованию себе или, скорее, нам. А пишу я сейчас так медленно! Один час с пером в руке, два часа — в постели, когда зрение начинает терять остроту, замирает сердце (чисто физическое ощущение) и немеют пальцы. Ах, ладно уж, такова моя карма; и сказать мне нечего. Нет, милая, я — рассуждая о карме — не видела новой книги Вашего мужа, сейчас до меня не доходят никакие новости, но я просила Боваджи послать за ней в Лондон. Я была немало поражена Вашими словами о том, какое впечатление произвело мое письмо на Вас и Вашего дядюшку, но при этом испытала и приятное удивление; всё же это был настоящий сюрприз, поскольку я, хотя и не помню из него ни слова, тем не менее не могла написать Вам нечто такое, что так или иначе отличалось бы от того, что я писала десятки раз другим и притом сотни раз именно этими же словами. Но то, что Вы говорите, заставляет меня опечалиться еще больше. Не сражайтесь за меня, моя добрая, милая миссис Синнетт, не надо меня защищать; Вы только потеряете время, да к тому же Вас еще и назовут сообщницей, если не чем-то похуже. Вы навредили бы себе и, возможно, делу, а мне не принесли бы никакой пользы. Слишком глубоко въелась клевета в этого злосчастного индивидуума, известного как Е.П.Б, и слишком сильны оказались или, скорее, оказываются химикаты, использованные для очернения, и поэтому, боюсь, сама смерть никогда не смоет в глазах тех, кто меня не знает, ту грязь, что была брошена и прилипла к личности «дорогой Старой Леди». Ах, да, теперь «Старая Леди», Вы только гляньте, добродетельна, гордость своих друзей и, если хотите знать, украшение общества. Только в «Оккультном мире» содержится ключ к ситуации и истине. Однако «Оккультный мир» ныне не в ходу даже в штаб-квартире. На этот раз бедняга полковник надежно спрятал его, замкнув на три оборота, в самой глубине своей исстрадавшейся доброй души и не отваживается до поры до времени упомянуть о нем хоть словом. Реакция и преувеличение с его стороны — как обычно. Он напичкал Общество психических исследований тем, что большинство может воспринять как всего лишь небылицы, и неоднократно воевал со мной, когда я просила его не выбирать их в качестве верховных судей и не иметь ничего общего с главарями, а теперь, когда их третейский суд завершился для нас столь восхитительным образом, он перепугался и стал брамином, обычным Субба Роу, дабы сохранить секретность. Он забывает, что от «тех, кто отречется от меня перед людьми, я отрекусь перед моим (тибетским) отцом». Он, конечно, не отказывается от Учителей, но смертельно боится даже произносить Их имена, не считая случаев, когда остается наедине с самим собой. Ах! Если бы ему хоть половину той сдержанности и осторожности, когда он Владыку Будду толкал на колесиках перед интуитивно собравшимися на заседание Общества психических исследований! Однако слишком поздно. Consumm atum est! [Свершилось! — (лат.)] Да мне ведь и в самом деле в высшей степени наплевать на мою личную репутацию, но только вот каждая выпущенная в меня и пронзающая меня насквозь отлитая из грязи пуля забрызгивает несчастное Теософское Общество вонючими ингредиентами. Вы не можете себе «представить, что кто-либо знающий Вас (меня) в состоянии поверить в Вашу (мою) виновность» — виновность в дурацких поступках, ответственность за которые возлагают именно на меня. Не могла и я — шесть месяцев назад, зато могу теперь. Когда это было, чтобы люди принимали и помнили правду, а лжи и клевете не удавалось пустить глубокие корни в их сознании? Мир состоит из миллионов тех, кто меня не знают, кто никогда меня не видели и не слышали, но зато слышали обо мне; а то, что они слышали — даже в лучшие для теософии времена, когда она, можно сказать, вошла в моду, — никоим образом не способно расположить их ко мне; и среди этих миллионов — несколько сотен, ну, скажем, тысяч, — кто встречались со мной лично, то есть с этой весьма неприятной особой в ее «черном балахоне» и с грубой манерой выражаться. Тех же, кто действительно знают меня и, мельком взглянув, распознали внутреннее существо, — всего несколько дюжин. А если Вы их всех разделите на тех, кто на самом деле верят, но боятся потерять свое положение в обществе; тех, кто знают, но их интерес кажется сомнительным, и еще на тех, кого наши феномены вышибли из седла — как спиритуалистов — и свернули голову их собственным любимым занятиям, — то что же останется? Дюжина-две личностей, кто подобно Вам имеют мужество быть честными с самими собою, и даже очень немалое, дабы показать, что они и в самом деле его имеют, под носом и перед лицом идиотов и эгоистов этой эпохи! Разумеется, все вы, кто верят в Учителей и уважают Их, не могут, не потеряв в Них веры, считать меня виновной. Те, кто не находят никакого противоречия в идее (Хьюм один из таких) отвратительной лжи и мошенничества даже для пользы дела, — будучи связанными с выполнением работы для Учителей, — прирожденные лицемеры. Люди, способные допустить, что столь чистые и святые руки могут коснуться и взять, не чувствуя никакой брезгливости, управление таким грязным инструментом, каким меня теперь представляют, — дураки от рождения или не видят ничего особенного в работе по принципу «цель оправдывает средства». А поэтому, выражая Вам свою благодарность и по достоинству оценивая безмерную доброту Вашего сердца, которая продиктовала такие слова, как «и если бы завтра я убедилась, что Вы написали эти гнусные письма, я всё равно любила бы Вас», я отвечаю: надеюсь, что Вы бы так не поступили, причем ради самой себя. Напиши я хоть одну из этих идиотских и, по сути, позорных вставок, не без посторонней помощи появившихся теперь в упомянутых письмах; будь я виновна всего только раз — в преднамеренной, специально состряпанной фальшивке, и особенно когда обманутыми оказались бы мои лучшие, самые преданные друзья, — никакой «любви» к таким, как я! В лучшем случае — жалость или вечное презрение. Жалость, если бы оказалось, что я не несущая ответственности за свои действия психопатка, подверженный галлюцинациям медиум, которую заставляли заниматься подобным обманом ее «руководители», коих я выдавала за Махатм; презрение, если всё это — сознательный обман, но в таком случае где же тогда так называемые Учителя? Ах! дорогое дитя моего многоопытного сердца, я была, действительно была виновной лишь в одном преступлении с точки зрения нормального человеческого восприятия. Много есть такого, что я обязана была скрывать, держа язык за зубами; немало и того — хотя и меньше, — что я допустила выйти в неисправленном виде, согласно мерилу общества и мнению моих друзей; но всё это было не нашими феноменами, а только ошибками и галлюцинациями, преувеличениями других людей, также вполне честных. И если я поступала подобным образом, то лишь потому, что всегда боялась повредить делу; к тому же, если бы я «пересмотрела и исправила» те первые издания, передо мной могли поставить задачу истолковать остальное, что я никоим образом не смогла бы сделать, не выдавая того, что не имела позволения разглашать. Никогда, никогда Вам не удастся, да Вы и не сможете постичь, со всей Вашей искренностью и расположением ко мне и Вашим от природы тонким восприятием, — всё, что мне пришлось выстрадать за последние десять лет! Чт'о люди могут знать обо мне? Внешняя оболочка, раскормившаяся на животворном источнике внутренней несчастной узницы? А люди-то воспринимали только первую, даже не подозревая о существовании второй. И та, первая, выслушивала обвинения в честолюбии, любви к дешевой славе, корыстных намерениях, мошенничестве и трюкачестве, коварстве и беспринципности, одурачивании и обмане — от среднего обывателя; и в лицемерии и лживости, будучи притом подозреваема в подсовывании умышленно фиктивных феноменов, — от моих лучших, самых дорогих друзей. Связанная, как и было в действительности, по рукам и ногам своим обещанием, клятвой, усложнившей всю мою будущую жизнь — увы, даже жизни, — чт'о я могла поделать, поскольку мне запретили объяснять всё, предоставив лишь отстаивать истинность того малого, что мне было дозволено раскрыть, и просто отрицать несправедливые обвинения? Но, надеясь на исправление в своем будущем существовании, когда, побледнев, растает этот жуткий период кармы; почитая Учителей и поклоняясь моему Учителю — единственному творцу моего внутреннего «Я», которое — если бы не Его призыв, разбудивший это «Я» ото сна, в каком оно пребывало, — никогда бы не перешло к сознательному бытию (во всяком случае в этой жизни), и по достоинству оценивая всё это, я клянусь, что никогда не была виновной ни в одном бесчестном поступке. Возможно, я часто казалась бессердечной, изредка позволяя людям жертвовать собой, как это делала я, понимая, что у них — в этой жизни — нет ни одного из предоставленных мне шансов продвинуться очень далеко вперед, но делалось это для их пользы, не моей. И неважно, развились они или нет, награда за это благое намерение сохранилась их кармой; тогда как в моем случае, чем больше я совершенствуюсь в делах оккультных, тем меньше остается у меня шансов на счастье в этой жизни, поскольку для меня все б'ольшим долгом становится принесение себя в жертву ради пользы других и во вред себе самой. Но таков этот закон. Ах, если бы только знали они, некоторые из моих «друзей», кто, если и не выступают против меня открыто, всё же испытывают весьма серьезные сомнения в моей честности, если бы они только могли понять теперь — о чем именно они обязательно однажды узнают, когда меня не будет в живых и память обо мне будет полностью осквернена, — сколько я сделала им истинного добра! Я не собираюсь заявлять, что поступала подобным образом ради них самих; потому что вообще даже и не думала об их личных «я». Но раз уж они случайно попали в круг, где была пролита кровь бедного старого пеликана, и получили причитающуюся им от этого долю благ, зачем же некоторые из них проявляют такую жестокость, если не сказать — неблагодарность! Дражайшая миссис Синнетт, мое сердце разбито — физически и морально. До первого мне нет дела, пусть Учитель позаботится о том, чтобы оно не разорвалось, пока во мне испытывают нужду; а в отношении второго, — так тут уж ничего не поделаешь. Учитель может, но не будет вмешиваться в карму. Мое сердце разбито не из-за того, что натворили мои истинные, открытые враги — их я презираю; а из-за эгоизма и малодушия, когда требовалось выступить в мою защиту, явно выказанной готовности принять и даже вынуждать меня на всякого рода жертвы, когда — Учителя в том свидетели — я готова отдать всю свою жизнь до последней капли, отказаться от самой малой надежды — не скажу на счастье, но хотя бы на покой и благополучие в этой жизни, ставшей для меня пыткой, — ради дела, которому я служу, и ради каждого истинного теософа. Вероломство — эта атмосфера, сотканная из ласковых и полных сочувствия слов, скрывающих крайнее себялюбие, то ли от безволия, а может, от честолюбия, — просто внушало ужас. Я не стану упоминать этих людей. С некоторыми, даже с большинством из них я до своего смертного часа останусь в хороших отношениях. Да и не позволю им заподозрить, что с самого начала читала их, как открытую книгу. Но я никогда не забуду — не смогла бы, даже если бы и постаралась, — ту достопамятную ночь наступившего в моей болезни кризиса, когда Учитель, до того как добиться от меня определенного обещания, раскрыл мне некоторые факты, о которых, по Его мнению, мне следовало бы знать прежде, чем я дам Ему слово по поводу работы, которую Он попросил меня (а отнюдь не приказал, на что имел право) сделать. В ту ночь, когда миссис Оукли, и Гартман, и вообще все, кроме Боваджи Д.Н[атха], каждую минуту ожидали, что я испущу последний вздох, — я узнала всё. Мне показали, кто был прав, а кто неправ (невольно), кто был абсолютно ненадежен, и обрисовали в общих чертах картину того, что мне следовало ожидать. Да, скажу Вам, немало узнала я в ту ночь — причем такого, что навсегда оставило след в моей душе; черная измена, притворное дружелюбие в корыстных целях, вера в мою виновность и даже решимость лгать в мою защиту, так как я была удобной ступенькой, чтобы подняться выше, да Бог знает что еще! За то короткое время я разглядела человеческую натуру во всей ее мерзости, чувствуя на своем сердце одну руку Учителя, не позволяющую ему остановиться, и наблюдая, как другая развертывала передо мной прекрасное будущее. При всем этом, когда Он раскрыл мне всё-всё и спросил «Готовы ли Вы?», — я ответила «да» и таким образом расписалась в своем страшном конце ради тех немногих, кто имел право на Его благодарность. Поверите ли Вы мне, если я скажу, что среди этих немногих два ваших имени занимали видное место? Вы можете не верить или сомневаться — однако это так. Сколь долгожданна была смерть в тот час, покой так необходим, так желанен, а жизнь, что надвигалась на меня неотвратимо, ныне оказалась такой жалкой; но как же я могла сказать «нет» Ему, кто хотел, чтобы я продолжала жить! Для Вас, возможно, всё это и непостижимо, хотя я надеюсь, что это и не совсем так. <...> Я не хочу жить ни в одном крупном центре Европы. Но мне просто необходимо иметь теплое и сухое жилище, несмотря на холод снаружи, ибо я никогда не покидаю своих комнат, а здесь и здоровые люди, если не живут в особняках, схватывают простуду и ревматизм. Мне по душе Вюрцбург. Он находится неподалеку от Гейдельберга, и Нюрнберга, и всех центров, где живет один из Учителей, и это именно Он посоветовал моему Учителю отправить меня туда. К счастью, я получила из России несколько тысяч франков, а некие благотворители прислали мне из Индии 500 и 400 рупий. Я чувствую себя достаточно состоятельной и богатой, чтобы жить в тихом и спокойном немецком городке, а моя бедная старая тетушка приедет туда меня навестить. Хотелось бы иметь со вкусом отделанную квартиру, и счастливым будет тот день, когда я увижу Вас за моим самоваром, если Вы действительно намереваетесь спуститься (или подняться?) до встречи со мной. Это, мне кажется, недалеко от Эльберфельда, менее дня пути. И тогда я буду жить в распоряжении моего Учителя и как Ему угодно, или, вернее, прозябать в течение дня, а жить только ночью и писать весь остаток моей (не)естественной жизни. Куломбы, я слышала, покинули Индию и приезжают в Лондон, где, полагаю, они или, скорее, она нанесут Вам визит. Они ни перед чем не остановятся, пока на свете остается хоть один верящий в меня человек, притом и миссионеры обещали выплачивать им ежегодно по 5 тысяч рупий, если они продолжат ничем не прерываемую деятельность по уничтожению Е.П.Б. Они вольны поступать и говорить, как и что им заблагорассудится. Мой сердечный привет и поклон всем. Как там славный крошка Дэнни? Остаюсь всегда Ваша Е.П.Б[лаватская].
19 августа 1885 г. 6, Людвиг-штрассе, Вюрцбург Мой дорогой м-р Синнетт! Когда неделю назад я была в Люцерне, мне определенно стукнуло в голову написать Вам. Почему не написала? Не знаю. Возможно потому, что месяцами не получала вестей от Вас и как-то не могла снова приспособиться к писанию писем, что теперь становится для меня пыткой в силу причин, вряд ли требующих объяснения. Но едва прибыв в этот маленький тихий городок, выбранный мною в качестве нового местожительства, я получила Ваше письмо от 1 августа. Оно тронуло меня больше, чем можно выразить словами. Мой дорогой м-р Синнетт, если во всем этом мире когда-либо и существовал человек, которого я неправильно поняла, — возможно, потому, что никогда не обращала особого внимания всего лишь на одну черту его натуры, — так это Вы. Я никогда не сомневалась в Вашей великой преданности Махатме, Вашем неподдельном интересе к делу, хотя последний всегда оставался у Вас вроде бы и независимым от Т[еософского] О[бщества], причем не только в душе, и в то же время тесно с ним связанным. Но можно было оставаться навеки верным и Движению, и его главным силам и всё же уклоняться от любых дальнейших контактов с таким опозоренным, таким отвратительным на вид человеком, как я сейчас. Но Ваша личная доброта показывает мне, что я, как обычно, осел на этом плане существования, и что хорошо сделано то, что делают только Махатмы, и только то, что Они знают и говорят, обоснованно и правдиво, а это, в конечном счете, всегда может выяснить тот, кто умеет ждать. Однако не буду терять времени и испытывать Ваше терпение личными излияниями. Я намереваюсь ответить на Ваше письмо, вопрос за вопросом. Вы правы — я не видела «Кармы»[1] до того дня, как Вы послали ее мне, за что — большое спасибо! Я прочла ее, не отрываясь, от первой строчки до последней. Боялась, что она будет похожа на «Родственные души», в которых кусочки настоящей трепещущей плоти, вырванные из живых и реальных личностей, всунуты в манекены, рожденные воображением автора и вынужденные сходить за героев, «списанных с натуры». В «Родственных душах» герои представляют собой либо карикатуры, либо идеалы, красота и значение которых преувеличены до крайности, как, например, Колхаун (полагаю, Оскар Уайльд). В «Карме» прототип миссис Лэксби вовсе не приукрашен, а ее недостатки отнюдь не преувеличены. Вы взяли только реально существующие характерные черты словно из жизни, обойдя все наиболее бросающиеся в глаза недостатки снисходительным молчанием. Но только ли это «снисходительное молчание», дорогой мой м-р Синнетт? Боюсь, что Вы всё еще слегка очарованы. Ну что ж, уж лучше быть верным своим друзьям со всеми их недостатками, чем изменить свое мнение о них и отказаться или бросить их при первой же смене декораций. Это не для меня — сделать Вам выговор за постоянство, когда, возможно, именно этой Вашей черте я теперь обязана получением доброго письма, когда я знаю, до какой степени немыслимо для Вас считать меня совершенно безупречной в вопросе мошенничества — оставим мои собственные врожденные недостатки и, может быть, пороки. Да, я отдаю себе отчет, как трудно было Вам говорить обо мне в Лондоне и особенно в Париже. Махатма всегда говорил: «Всё так, как должно быть, и он не может поступать иначе», а теперь мне приходится убеждаться в том, что Он был прав, а я, как обычно, ошибалась. Я могла бы рассуждать с Вами о «Карме» до завтра — до того она мне нравится; но есть другие, более важные для нас дела, о которых надо побеседовать; однако я всё же добавлю кое-что еще. Д.Н[атх] просил «Карму» у Мохини; но Мохини теперь крупная фигура, и у него, вероятно, нет времени, чтобы заниматься всем, что его ни попросят сделать. Как бы то ни было, она у меня есть, и еще раз спасибо Вам за это. Вы принесете больше пользы фантастическими романами, в которых правда и подобные факты обнаруживаются в очевидной выдумке, чем такими трудами, как «Оккультный мир», каждое слово в котором рассматривается сейчас сведущими теософами как небылицы и галлюцинации соучастников. Я — «объект постоянного внимания и пересудов» в ваших кругах. Жаль, что это так: ибо или доверие и дружба — или недоверие и возмущение; ни друзья, ни недруги никогда не познают всей правды. Так какой же толк? Положите руку на сердце, дорогой мой м-р Синнетт, и скажите: произнес ли кто-нибудь из моих врагов с прошлого (1884 года) мая ну хоть что-нибудь или хотя бы самое пустяковое обвинение, которое бы не было предварительно обмусолено ими в частной беседе или в газетных сплетнях и намеках? Единственная разница между теперешними обвинениями, выдвинутыми Куломбом — Паттерсоном — Ходжсоном, и теми, что предшествовали скандалу в Адьяре, заключается в следующем: тогда газеты только намекали, теперь они — утверждают. Тогда их удерживал в определенных рамках (однако слабо) страх перед законом и чувство приличия; теперь они перестали бояться и утратили всяческие представления о приличии. Взгляните на проф. Сиджвика. Он явно джентльмен и по натуре честный человек, справедливый, как большинство англичан. А теперь скажите мне, осмелится ли какой-нибудь неспециалист (мнение отцов Общества психических исследований, разумеется, ничего не стоит) утверждать, что его печатное мнение обо мне является беспристрастным, законным или честным? Если бы вместо фиктивных феноменов меня обвиняли в залезании в карман моих так называемых жертв или еще в чем-нибудь «поддельном», — а выдвижение подобных обвинений за недоказанностью наказуемо по закону, если они полностью не доказаны, — Вы думаете, у проф. Сиджвика найдется, на что опереться в суде? Конечно, нет. Нет ни одного феномена, в отношении которого может быть доказано — на основании закона, если бы феномены представляли собой нечто признанное по закону, — что это сплошь обман от начала до конца. Тогда какое он имеет право публично рассуждать (и печатать свое мнение) о моих жульничествах, мошенничестве, нечестности и фокусах? Не будете же Вы утверждать, что с его стороны честно, или порядочно, или даже законно злоупотреблять своим исключительным положением и характером затронутого вопроса, чтобы клеветать на меня, или, если Вам так больше нравится, — я бы сказала, обвинять меня таким образом и позорить мое имя — на основании таких гнусных доказательств, как те, что они получают через Ходжсона? Единственное право, имеющееся у Общества психических исследований, — это право объявить, что, несмотря на все их исследования, они не получили никаких доказательств, подтверждающих, что феномены были совершенно подлинные; что есть серьезное основание предполагать, с научной и логической, если не с юридической точки зрения, что, возможно, имели место преувеличения в отчетах, подозрительные обстоятельства, свойственные их производству, и т.д. — но никоим образом не умышленное мошенничество, не обман и т.д. Их июльский отчет выставляет их всех — от Майерса и Сиджвика до их последнего поклонника — ослами. В нем они смотрятся нелепо, самым смехотворным образом недобросовестно. Можете ли Вы после этого упрекать Соловьева и других русских теософов за их слова, что главным двигателем их ярости против меня является то, что я русская? Я знаю, что это не так; но их, русских, вроде Соловьева и одесских теософов, нельзя заставить рассматривать причину подобной вопиющей несправедливости в каком-либо ином свете. У них нет выбора между двух огней. Каждый непредубежденный человек, не лишенный ума, прочитав отчет и сравнив текст на стр. 452 и 453, должен сказать, что те, кто его составили и отредактировали, либо движимы слепой, дикой личной ненавистью и предубеждением, либо они — ослы. Прочтите, пожалуйста, и если Вы не смогли в силу какой-то непостижимой причины заметить этого раньше, — оцените теперь. На стр. 452 (см. абзац 5-й) проф. Сиджвик сделал заявление об их категорическом отрицании «какого бы то ни было намерения обвинить полковника Олькотта в умышленном обмане». Вслед за этим возникает вопрос о конвертах, в которых было обнаружено то, что написано Махатмами, и которые могли быть предварительно вскрыты мною или другими. Письма от Учителей, полученные в Адьяре в то время когда я была в Европе, «могли» быть «во всех случаях» подстроены Дамодаром, и т.д., и т.п. Исчезновение письма, присланного с парахода «Вега», легко может быть объяснено наличием вентиляционного проема рядом с комнатой Бабулы — проема, который, между прочим, если Вы помните, заколочен и плотно закрыт (стены и проем) моим большим ковром, и т.д., и т.п. Но предположим, что письмо с парахода «Вега» мошеннически заставили «испариться» в Бомбее. Как же тогда м-р Ходжсон, Майерс и К° объяснят его немедленное, мгновенное появление в Хауре (Калькутте) в присутствии миссис и полковника Гордонов (миссис Миллер и капитана из «Кармы»?) и нашего полковника [Олькотта], если упомянутый полковник столь очевидно безупречен, что главари Общества психических исследований сочли себя обязанными принести ему публичные извинения? Ясно одно: либо полковник Гордон, либо миссис Гордон, либо полковник Олькотт — один из них был в это время моим сообщником, или же они, кумиры Общества психических исследований, строят из себя дураков. Несомненно, ни один нормальный человек, способный здраво рассуждать и знакомый с обстоятельствами дела «Веги», или случаем с разбитым гипсовым портретом, или с письмом Хюббе-Шляйдена, полученным на германской железной дороге, когда я была в Лондоне, и очень многими другими фактами, — никогда не осмелится расписаться в том, что он осёл, заявив, что тогда как я законченная мошенница и все мои феномены трюки, полковника следует обвинить просто-напросто в «доверчивости и неточности при наблюдениях и умозаключениях»!! Как это надо понимать — как образец ценности научных исследований великого Общества психических исследований, которое восседает в Ареопаге над смиренными теософами? Ах! джентльмены из теософского жюри из Лондона и особенно из Адьяра, как легко смогли бы вы взбить омлет из своих кембриджских тузов, почувствуй вы себя столь же исполненными презрения к ученому обществу «научных» исследователей, сколь полна им с самого начала я, вместо того, чтобы почтительно взирать на него как на оракула XIX века в вопросах психики! Мохини, должно быть, потерял голову, не разбив психистов на месте. Уже эти две страницы точно содержат полное осуждение Общества психических исследований; и их самих по себе достаточно, чтобы разоблачить тех перед любым людским судом присяжных как предубежденных, недобросовестных судей, не годящихся для того положения, которое они себе присвоили. Они достойны своего «эксперта по каллиграфии» м-ра Незерклифта или как бишь там его научное имя. «Баркис не прочь»[2] признать, дорогие ученые друзья, что «Разоблаченная Изида» и все лучшие статьи в «Theosophist», как и каждое письмо от обоих Махатм — на английском ли, французском, телугу, санскрите или хинди, были написаны Е.П.Блаватской. Она готова поверить в то, что более 20 лет, «не будучи даже медиумом», одурачивала самых интеллектуально развитых людей века в России, Америке, Индии и особенно в Англии. При чем тут подлинные феномены, когда сама автор тысячи фиктивных проявлений, открыто объявленных перед всем миром, — такой живой, воплощенный феномен, чтобы проделывать всё это и гораздо больше? Ведь потребовались только мадам Куломб и дюжина немытых, дурно пахнущих шотландских и американских падре, поддержанных такими умными специалистами и исследователями, как кембриджские тузы, чтобы нарушить работу всего механизма. Пусть м-р Ходжсон уличит меня хоть в одном-единственном случае, открытом ему мадам Куломб, который не был бы уже запланирован и на который раньше не намекали бы индийские и американские газеты, и тогда я склоню свою униженную голову. Бедняги даже не испытали трудности изобретения чего-нибудь новенького. Инцидент с брошью в Симле обсуждался ad nauseam [до отвращения — (лат.)] 4 года назад лахорскими и бомбейскими газетами, которые стали их пророками — бессознательно. Она штудировала и хранила газеты годами. Она начала строить планы предательства в 1880 году, с первого дня, как она с мужем прибыла в Бомбей, оба босые, без гроша и голодные. Она предложила на продажу мои секреты преп[одобному] Бауэну из «Bombay Guardian» в июле 1880 года, а в действительности продала их преп. Паттерсону в мае 1885 года. Но этими тайнами были «открытые письма» за многие годы. С какой стати мне жаловаться? Разве Учитель не оставил на мое усмотрение либо следовать велению Владыки Будды, который предписывает нам суметь накормить даже голодную змею, презрев всяческий страх, чтобы она не повернулась и не укусила кормящую ее руку, либо смело встретить карму, которая, несомненно, покарает того, кто отворачивается от зрелища греха и страдания или оказывается неспособным помочь грешнику и страдальцу. Я знала ее и делала всё возможное, чтобы ее не возненавидеть, и так как в последнем я всегда терпела неудачу, то старалась возместить это предоставлением приюта и еды гнусной гадине. Я имею то, что заслуживаю не за те грехи, в которых меня обвиняют, а за те, о которых никто — кроме Учителя и меня — не знает. Значительней ли я или, во всяком случае, лучше ли, чем были Сен-Жермен и Калиостро, Джордано Бруно и Парацельс и еще многие-многие другие мученики, чьи имена появляются в энциклопедиях XIX века под «похвальными» титулами шарлатанов и самозванцев? Это будет карма слепых и злобных судей — а не моя. В Риме Дарбхаджири Натх ходил в тюрьму Калиостро в форте Сан-Анджело и пробыл в этой гнусной темнице больше часа. То, что он там делал, могло бы дать м-ру Ходжсону повод для еще одного научного отчета, сумей он только исследовать этот факт. Нет, это не «проводимая Братьями политика сокрытия такого доказательства... их существования», а политика Маха Когана и карма Махатмы К.Х. Если Вы ни разу не задумывались о том, что может быть причиной Его страдания на протяжении человеческих периодов Его состояния Махатмы, то Вам необходимо еще кое-чему поучиться. «Вас предупредили», — сказал Ему Коган. — И Он ответил: «Да». И всё же Он говорит, что рад, что Он пока еще никакой не меджнур, не засушенное растение, и, доведись Ему страдать снова и снова, Он по-прежнему станет делать то же самое, ибо ему известно, что истинное благо для человечества произошло из всего этого страдания и что такие книги, как «Эзотерический буддизм» и «Карма», не были бы написаны, если бы Он не общался с Вами, если бы мне не давались приказы делать то, что я делала, — иногда, возможно, и бестолково. Это собственные слова Махатмы К.Х. Нет, Он не оказывается «сразу же в Париже» — кроме как в течение часов Его состояния Махатмы. Его Дэвакхан — пока еще далек, и люди могут услышать о Нем, когда ожидают этого меньше всего. Я совсем не вижу Его и не слышу о Нем, в последнее время Д.Н[атх] видит и слышит. Но я знаю, что говорю, хотя и не получаю приказов сообщать это кому бы то ни было. Помните только, что Он страдает больше, чем, может быть, любой из нас. И Вы не подозреваете, насколько правы, говоря, что «Он как любил, так и будет искренне меня любить. Да что там, даже больше, чем я люблю Его», ибо даже Вы никогда не сможете любить Его так же, как Он любит Вас — ту частицу рода людского, которая делала всё возможное, чтобы помочь и принести пользу человечеству — «великому сироте», о котором Он рассуждает в одном из своих писем. То, что Вы говорите о соответственных положениях, в которых находятся европейское и индийское Теософские Общества, — совершенно верно. Олькотт со всеми своими прекрасными качествами стал — особенно в последнее время и под новыми влияниями, о которых я не буду распространяться, — настоящим скопищем тщеславия и глупости. Это он проделывает бессознательно. Он говорит, что им не будет руководить никто, кроме Учителя, — Учитель же отказывается руководить им кроме как в чрезвычайно важном деле, не имеющем никакого отношения к личной карме или карме Общества. В результате — полнейшая чепуха. Il pose pour le martyr [Он изображает из себя мученика. — (фр.)]! Бедняга, он ослеплен, искренне веря, что спасает Общество, дело — как он выражается, и в последнее время ведет политику умиротворения Молоха общественного мнения, осторожно признавая, что я, возможно, добавляла время от времени фиктивные феномены к настоящим! что временами я страдаю от психического расстройства, и т.д. Он достаточно нелеп в своей неподдельной и безупречной, хотя и всегда твердолобой честности, забывая, что признанием, даже в таком виде, того, что, по его мнению, наверняка есть обман, он признаёт себя первым и главным соучастником этих якобы фиктивных феноменов. Но об этом слишком долго писать. Когда я увижу Вас — как бы мне этого хотелось! — то расскажу много странного. Вспомните только, что еще в Эльберфельде я уже рассказывала Вам то, чт'о сообщил мне Учитель. Он не годится вести за собой Общество кроме как номинально, потому что Общество опередило его в развитии. Пусть остается номинальным президентом, но пусть мы, действующие президенты, — один в Индии, второй в Европе, третий в Америке — начнем работу с этой целью. Только Вам следовало бы стать президентом во главе всех европейских Обществ, причем пожизненно — да и кто же еще вообще может быть избираемым на год президентом Лондонской ложи или Парижского или Германского Теос[офского] Общества? Таково желание моего Учителя — я знаю это. Что касается меня, то я твердо решила оставаться sub rosa [конфиденциально — (лат.)]. Я могу сделать гораздо больше, оставаясь в тени, чем став известной и еще раз оказавшись в центре событий. Дайте мне укрыться в неведомых местах и писать, писать, писать и учить каждого, кто хочет учиться. Так как Учитель заставил меня жить, дайте мне теперь жить и умереть в относительном покое. Очевидно Он хочет, чтобы я по-прежнему работала для Т[еософского] О[бщества], так как не позволяет заключить контракт с Катковым, — который приносил бы ежегодно, по крайней мере, 40 тысяч франков, — чтобы писать исключительно для его журнала и газеты. Он не пожелал разрешить мне подписать такой контракт, когда мне его предложили в прошлом году в Париже, и не позволяет этого теперь, потому что, говорит Он, мое время «придется занимать другим». Ах, жестокая, отвратительная несправедливость, обрушившаяся на меня со всех сторон! Представьте себе: чудовищной клевете «С.С.М.» и Паттерсона, который заявил, что я пыталась выманить у м-ра Джейкоба Сэсуна 10 тысяч рупий в том деле в Пуне, позволено было пройти неопровергнутой даже Кхандалавалой и Иезекиилем, которые знают так же, как они уверены в своем существовании, что это особое обвинение является, по меньшей мере, самой гнусной, лживой клеветой; какова бы ни была значимость феномена Рамы Синга! Почему же это мои лучшие друзья позволяют так поливать меня грязью? С какой это стати отчет Комитета Защиты был запрещен, а Олькотт объявил в печати о его задержке? Разве это, как выражается Паттерсон, не прямое признание того, что Комитет совершил ошибку: признав меня в конечном счете виновной, он прекратил таким образом защиту? Кто из людей знает, что после того как я более 10 лет работала для Общества и отдала жизнь его прогрессу, меня вынудили покинуть Индию — нищей, буквально нищенкой, зависящей от щедрости «Theosophist» (моего собственного журнала, учрежденного и созданного на мои собственные деньги!) во всем, что касается каждодневных средств к существованию. Я предстала корыстной самозванкой, мошенницей ради денег, в то время когда я никогда не просила и не получала ни одного паи[3] за свои феномены, притом, что пожертвованы тысячи из моих собственных денег, заработанных статьями на русском языке, когда в течение пяти лет я отказывалась от гонорара за «Изиду» и от дохода от «Theosophist», чтобы поддерживать Общество. А теперь мне великодушно выдают ежемесячно 200 рупий из этого дохода, чтобы спасти от голодной смерти в Европе, и Олькотт упрекает меня за это почти в каждом письме. Таковы факты, дорогой мой м-р Синнетт. Если бы беднейшее в Индии Общество — или, вернее, четыре члена этого беднейшего Общества в северо-западной провинции — узнав, что я, замерзшая и без гроша, высадилась в Нанте, не прислали мне каждый свое жалованье за два месяца (всего 500 рупий) — я не смогла бы приехать сюда. Ни одному из индусских Обществ не позволяют узнать о моем истинном положении. Правду и факты скрывают от них, чтобы они не взбунтовались и не выразили свои гневные чувства полковнику. Когда они начинают слишком громко требовать меня, им говорят, что это я отказываюсь вернуться!! И только теперь они начинают прозревать правду. К счастью, Катков прислал 4 тысячи франков, которые был мне должен, и сейчас, когда у меня на некоторое время всё в порядке, я отошлю обратно 500 рупий, потому что все те четверо — бедные люди. Простите, что говорю всё это и выставляю себя такой эгоисткой. Но это прямой ответ на гнусную клевету, и будет всего лишь справедливо, что теософы в Лондоне узнают об этом, чтобы дать им возможность замолвить словечко в мою защиту. Соловьев так возмущен, что подал заявление в Общество психических исследований об отставке. Он написал длинное письмо Майерсу, и теперь последний отвечает ему, упрашивает и умоляет не быть столь суровым к ним и не отказываться от должности, а еще спрашивает его, утверждает ли он по-прежнему, что виденное им в Эльберфельде не было галлюцинацией или мошенничеством; и в заключение просит его приехать и встретиться с ним в Нанси, где он докажет ему мою вину! Соловьев заявляет, что так как он, подобно многим другим, поставлен их отчетом перед выбором признать себя либо ненормальным, либо сообщником, то он рассматривает это как пощечину, прямое оскорбление и отвечает Майерсу, требуя, чтобы его письмо непременно было опубликовано, а заявление об отставке обнародовано. Он собирается задержаться здесь, в Вюрцбурге, у меня на месяц или около того со своей женой и ребенком. В Париже и Петербурге тоже есть такие, кто намереваются отказаться от членства в Обществе психических исследований. Да, именно пичканье Олькоттом кембриджских психистов его переживаниями и его отвратительное, наглое появление с Буддой на колесиках на заседании Общества психических исследований навлекло на всех нас это мучение. Хотя он это и отрицает. Он, на самом деле, в Индии утверждает, причем мне в лицо, что я единственная причина этого, что именно мой визит в Европу вызвал всё это. Что ж — пусть так. Нет, вы ошибаетесь, если думаете, что это Учителя хотят, чтобы люди считали меня виновной. Напротив; хотя у Них нет возможности помочь мне непосредственно, ибо Они не смеют вмешиваться в мою карму, Они к тому же и не должны желать видеть, что меня защищают все те, кто честно считает меня невиновной. Те, кто так считают, только помогают своей карме, те, кто не считают, — пятнают ее. Верьте мне, каждая такая защита Ими записывается. Что Им требуется, так это только показать, что феномены без понимания философских и логических условий, их вызывающих, — фатальны и всегда будут оборачиваться катастрофой. Но с какой стати мне рассказывать всё это Вам, когда ваш «барон Фридрих» дословно повторяет всё произнесенное Учителями! Вы знаете или Вам следовало бы знать, чего Они действительно хотят, и даже уразуметь истинную природу законов. Всего лишь правильно и справедливо, что я или любой другой отдельный человек, преданный делу, с радостью и добровольно пожертвует собой или в любом случае согласится, чтобы его принесли в жертву ради блага многих. Но это в общих чертах и не имеет или, скорее, не может иметь никакого отношения к деталям. Это правильно, что я должна быть готова стать козлом отпущения ради блага и развития Теос[офского] Общества, отказавшись от участия в Движении, чтобы не слишком сильно раздражать «дикого быка». Но какую пользу могу я принести делу, допустив, чтобы меня считали наемником, гнусным негодяем, позволив клевете Паттерсона и Ходжсона оставаться неопровергнутой? Я причиню ему несомненный вред. Но именно так поступают Олькотт и многие другие, ограничиваясь полумерами, делая вид, что признают мою вину возможной, причем вполне возможной, и даже скрывая от «Theosophist» обращения с выражениями симпатии мне и осуждения клевещущих на меня, присланные мне парижскими и одесскими теософами, а также Германским отделением. Какое они имеют право утаивать эти обращения, присланные в Адьяр для опубликования в нашем журнале, Драммондом и мадам де Морсье, генералом Коугеном и Цорном, Хюббе-Шляйденом и другими? Пока мои враги рвут меня на куски, люди в Адьяре играют в «прятки»: они притворяются мертвыми — о! ничтожные, жалкие трусы!! Обратите внимание — это не индусы, что бы Вам там ни говорили. Я докажу Вам с помощью множества писем, что они первые введены в заблуждение. Уверяю Вас, я страдаю больше от теософских предателей, нежели от Куломбов, Паттерсона или даже Общества психических исследований. Если бы все Общества держались вместе как один человек; если бы было единство вместо личных амбиций и пробужденных страстей, — весь мир, сами Небеса и Ад не смогли бы нас одолеть. Принесите в жертву меня, я готова, но не губите Общество — любите его и дело. Как это может быть, что ни один из вас не ухватился за вопиющую, очевидную несправедливость и, я бы сказала, за то, как нелепо, по-идиотски были проведены психические исследования? Когда и где Вы слышали о приговоренном подсудимом, которому не дали возможность сказать хоть слово? Какое они имеют право признавать письма Куломбов подлинными, если мне не позволили даже взглянуть на какое-либо одно из этих писем? Ходжсон получил их в Мадрасе. Когда он ежедневно приезжал обедать, есть и пить в Адьяре, они лежали у него в кармане. Показал он мне когда-нибудь хоть одно из них? Ясно: пользуясь тем, что я почти умирала и не могла покинуть свою комнату, он, должно быть, ежедневно приходил к Купер-Оукли и, несколько раз поднимаясь наверх навестить меня, ни разу даже и не пытался предоставить мне хоть какую-нибудь возможность. Было бы неправдой утверждать, что Ходжсон не «ловил рыбку в мутной воде» или не «собирал тайно» свои доказательства, — ибо он делал и то, и другое. Правда, его «неблагоприятная оценка данных была передана ведущим теософам» — то есть м-ру и миссис Оукли и некоторым другим, но никоим образом не мне. Это я сама сразу разоблачила его, когда в Адьяре еще никто и не помышлял о том, что он пошел против нас. А не разоблачи я всего этого (по велению Учителя, который показал мне Ходжсона в Бомбее и дал возможность прочитать его мысли в то время, как я была неподвижна и умирала на своем одре), деятельность Ходжсона осталась бы «тайной». Спросите миссис К[упер]-О[укли], не так ли это было; и она смеялась надо мной, называла дурочкой и т.д., когда я неожиданно сказала им, что м-р Ходжсон ополчился против нас. Спросите ее, и даже сам Ходжсон знает об этом. Не увидев писем, я, конечно, не могу помочь Вам найти хоть какой-нибудь ключ к разгадке этой тайны. Я знаю, как это было сделано. Но не могу доказать этого иначе, чем показав, как мой почерк появился на моей собственной визитной карточке на сеансе Эглинтона у «дяди Сэма», — что толку говорить об этом? Разве это не был идентичный моему почерк на той карточке? И всё же Вам известно, что это было сделано не мной. Почерк Алексиса Куломба естественным образом похож на мой. Мы все знаем, как однажды Дамодар был введен в заблуждение написанным моим почерком распоряжением подняться наверх и поискать меня в моей спальне в Бомбее, когда я была в Аллахабаде. Это была шутка месье Куломба, который решил, что весьма забавно обмануть его, челу, — и подготовил некое подобие меня, лежащей на постели, и, поразив Дамодара, 3 дня смеялся над ним. К сожалению, эта записочка не сохранилась. Она не предназначалась ни для каких феноменов, а была просто «забавной шуткой» Куломба, которых он позволял себе множество. И если он смог так хорошо подделать мой почерк в записке, то почему бы ему не копировать (у него было 4 года, чтобы подготовиться и проделывать это) каждый клочок и записку, написанные мною для мадам Куломб, на той же самой бумаге и делать любые вставки, какие ему только вздумается? Доказательством тому служит тот факт, что она готовилась к предательству еще с 1880 года. Еще один факт: когда Субба Роу написал мне в Париж, чтобы я хорошенько всё припомнила и сообщила ему, писала ли я ей когда-либо какие-нибудь компрометирующие письма, потому что если да, то было бы лучше купить их у нее за любую цену, чем позволить ей погубить мою репутацию и, возможно, Т[еософское] О[бщество], — я ответила ему (в мае 1884 года), что никогда не писала ей ничего такого, что боялась бы увидеть опубликованным; что она лжет и может делать, что ей заблагорассудится. Думаю, что это веское доказательство того, что я никогда не писала ничего подобного. Иначе и в самом деле, если бы я могла забыть, что и 3 месяцев не прошло, как я дала ей письменное указание обмануть м-ра Джейкоба Сессуна в Пуне, — то у Олькотта были бы все основания твердить, что я страдаю «психическим расстройством», что я «душевнобольная»! У Субба Роу есть мое письмо, написанное в ответ на его из Парижа. Это «авторитетное заявление» (разумеется, для меня, а не для психистов), которым я располагаю. Я видела Куломба сидящим за его столом и переписывающим один из таких написанных мною обрывков в сцене, показанной мне Учителем в астральном свете. Вы думаете, моему заявлению поверят? Тогда всё это ни к чему. Куломбы и Паттерсон боялись показать мне эти письма и дать возможность взять их в руки, потому что они верят и знают, что могут сделать Учителя; они страшатся могущества тех, кого они якобы считают моим изобретением. Иначе зачем бы им понадобилось выжать из Ходжсона обещание не давать мне в руки те несколько писем, что он получил от них? Спросите его, выясните, почему он никогда не показывал их мне? Почему он даже никогда не говорил мне, что получил их? Это серьезный факт, более серьезный, чем кажется на первый взгляд. Я разрешаю Вам делать с рукописью (что-то вроде моей необыкновенной биографии), озаглавленной «Госпожа Блаватская», — всё, что пожелаете. Миссис Холлоуэй устроила мне скандал (спросите мисс Арундейл и Мохини) из-за того, что я просила Вас просмотреть, исправить и опубликовать ее. Она высмеивала меня и называла дурой, заявляя, что я добровольно уступила Вам то, что принесло бы мне славу и деньги; что раз Вы заполучили ее, то никогда мне не вернете, а воспользуетесь ею и опубликуете ее в какой-нибудь Вашей новой книге. Ах, она действительно наговорила о Вас столько «лестного» в тот день — за несколько дней до своего отъезда. Мне было омерзительно, но я смолчала. Пожалуйста, оставьте ее себе и примите как подарок, если когда-нибудь сможете использовать. Я никогда не буду иметь к ней никакого отношения, поэтому дарю ее Вам навсегда и до конца, чтобы либо воспользоваться ею, либо отдать миссис Синнетт на папильотки. Не думаю, что Олькотт и в самом деле когда-нибудь посетит Америку, — не опасайтесь этого, ибо он слишком боится своей противной жены и ее нового мужа. Ваша идея очень хороша. Надеюсь, что увижу Вас до того, как Вы отправитесь в путь. Ну, мне кажется, я написала целый том. Извините, пожалуйста, но Вы же знаете, я не могу выражать свои мысли сжато, как Вы. Тысяча поклонов и добрых пожеланий миссис Синнетт и всем друзьям. Не забывайте старую «вюрцбургскую изгнанницу», всегда и навеки Вашу Е.П.Блаватскую.
Пятница [27 августа 1885 г.] 6, Людвиг-штрассе, Вюрцбург Ваше письмо из Эльберфельда требует большего, чем почтовая открытка и короткая телеграмма. Получили ли Вы и то и другое, или что-то одно, или не получили ничего? Ибо если это не дугпа, то вокруг меня, кажется, витает нечто роковое, что чинит препятствия письмам, сбивает всех с ног и вообще ставит всё с ног на голову у тех, кто еще не совсем от меня отвернулся. На прошлой неделе я написала Вам письмо на 24 или более страницах. В нем содержались важные сведения. В четверг, 20 августа, я получила письмо от миссис Синнетт, написанное в «Гранд-отеле» в Брюсселе. Она сообщает мне — оно сейчас передо мной, — что если я отвечу ей немедленно, то письмо застанет ее в Антверпене, где вы остановитесь в «Гранд-отеле» до субботы. Так как письмо у меня было готово, то я отправила его не мешкая, адресовав А.П.Синнетту, эсквайру, «Гранд-отель», Антверпен (Бельгия). Вы должны были бы получить его на следующий день. Где же оно? Неудивительно, что Вы, наверное, поразились, не получив от меня в ответ «строчку-две», когда все мои письма пропали! Ну, конечно, Соловьев пошел на почту с Дарбхаджири Н[атхом], когда его забрали. Я не понимаю, почему это из-за моей тетушки задержится Ваш приезд? Днем она спит, а всю ночь разговаривает со мной. Вы, как любой другой, поиграете с ней в солнце и луну, и, возможно, она окажется полезной Вам в некоторых делах. То же самое и с Соловьевым. Он написал Майерсу длинное письмо и подал в Общество психических исследований заявление об отставке, как поступил бы любой человек, которому они предоставляют на выбор признать себя либо страдающим галлюцинациями дураком, либо моим сообщником. Есть еще двое русских, которые, я слышала, выйдут из этого научного общества. Теперь Майерс пишет длинное письмо Соловьеву, умоляя его не отказываться от должности и спрашивая, утверждает ли тот по-прежнему, что видел Учителя в Эльберфельде, как и г-жа Глинка и все остальные. Соловьев отвечает, что видел, и настаивает на своей отставке и опубликовании своего письма-протеста. И вот что я Вам скажу, м-р Синнетт. Можете говорить что угодно, но ваши кембриджские тузы поступают не так, как подобает честным людям. Когда я увижу Вас, объясню гораздо больше, да и у Соловьева есть много что Вам рассказать. Я не могу еще раз повторить 24 страницы письма к Вам. Надеюсь, что Вы получите его и тогда будете в курсе дела. Спасибо за «Карму»; мнение о ней высказано в том же письме. Гостиница Рюгмера находится поблизости, там очень дешево и вкусная еда. Соловьевы там. Они останутся со мной еще на месяц. Однако видимся мы очень мало, так как у нас обоих много работы. Огромный привет миссис Синнетт! Преданная Вам навеки Е.П.Б[лаватская].
2 сентября 1885 г. 6, Людвиг-штрассе, Вюрцбург Дражайшие мои м-с Синнетт, м-р Синнетт и К°! Нет, милый мой пессимист, смею Вас уверить, что Ваш визит никоим образом не будет «испорчен», так как я не буду ни «сердита или занята», ни больна, во всяком случае, не больше, чем обычно; и даже не «в окружении» моего двора, ибо чтобы быть до такой степени окруженной, требуется двор, а если внезапно заходят один-два друга, а я вынуждена признать, что у меня еще осталось несколько друзей в этом мире, то это всё, чего я могу ожидать от судьбы и кармы, которые нашли таких непрофессиональных вешателей и палачей, выражающих желание выполнить грязную работу, как Майерс, Ходжсон и К°. Следовательно, будьте уверены, что, вероятно, ничто и никто не испортит «удовольствия», которое Вы, как Вы любезно выразились, давно предвкушали, если хоть кто-нибудь в этом мире майи еще может находить какое-нибудь удовольствие в компании такой старой развалины, как я теперь. 29-го, если это была последняя суббота, я сидела с Соловьевым за своим самоваром, и он спрашивал, когда я в последний раз получила известия от фрау Гебхард или кого-нибудь из этой семьи. Я сказала, что получила весточку от герра Гебхарда в ноябре прошлого года в Каире, и у нас состоялся не слишком приятный для меня разговор, во время которого я убедилась, что наши дорогие эльберфельдские друзья отказались от меня, и просто ответила, что если от меня отказались, то это моя собственная вина в сочетании опять же с кармой. И всё же зная то, чт'о я действительно знаю (и Вы это узнаете, когда я увижу Вас), я помалкивала и не сказала ничего; только не могла не чувствовать себя очень печальной и хранила молчание, как вдруг увидела совсем тусклые тени, и мои воспоминания перенесли меня назад, в «оккультную комнату» наверху и мою больничную палату, и Учитель сказал мне (я не видела Его, только слышала Его голос), что я очень неблагодарная, — и дзинь-дзинь. Чьи это были тени, я не могу сказать, потому что не узнала ни одну из них, — это произошло очень быстро, но у меня было сильное ощущение любви и сожаления о фрау Г[ебхард] и мысль об Эльберфельде. Возможно, тот, кто произносил слова, либо астрально проявился в Нем самом, либо послал одного из своих людей. Это все, что я знаю. Мисс Арундейл собирается отказаться от членства и, по ее словам, еще несколько членов тоже. Бедный Гартман. Он негодяй, но отдал бы жизнь за Учителей и оккультизм, хотя и добился бы гораздо больших успехов с дугпа, чем с нашими людьми. Он как черепаха: один шаг вперед и два назад; со мной он сейчас, похоже, очень дружелюбен. Но я не могу доверять ему. Перед уходом он сказал всем нам о миссис К[упер]-Оукли, что ее повесить мало, а теперь пишет ей письмо аж на восьми страницах. Нет человека, схватывающего оккультные идеи быстрее, но нет человека, менее способного уразуметь их духовно. То, что он говорит об Олькотте и Обществе, достаточно верно, но почему это он так язвителен при высказывании суждений? Говоря об О[лькотте], могу только сказать: бедный, бедный Олькотт; никак не могу перестать любить его, того, кто десять лет был моим преданным другом и защитником, моим товарищем, как он выражается. Но я в состоянии только пожалеть человека, настолько тупого, чтобы инстинктивно не понять, что если мы были теософскими близнецами в дни нашей славы, то в такое время вселенского гонения и ложных публичных обвинений «близнецы» должны быть вместе так же, как вместе возвышались, и что если он меня называет — во всяком случае, наполовину признаёт — мошенницей, то он должен быть таким же. Не знай я, что Учителя всё еще наблюдают за ним и Учитель защищает его, я бы поклялась, что им овладели дугпа. Только вообразите, что он написал мисс Арундейл, барону Гофману и многим другим, которых я могла бы назвать поименно, что я была сумасшедшей (в истинном смысле этого слова), и притом много лет; что я, возможно, иногда бывала виновной в фиктивных феноменах в моменты помрачения ума, и т.д., и т.п.! Виновна в одном, виновна во всём. Ах, бедный, бедный дурачок, своими собственными руками роющий пропасть под Теософским Обществом! На этом до свидания. Передайте мой сердечный привет всем, кто может его принять, и прежде всего вам двоим. Боваджи в высшей степени счастлив, Мохини и он плакали от радости. Со вчерашнего дня в моем так долго страдавшем сердце мир и покой и царствие небесное, так как я вижу возле себя мою бедную старую тетушку, мисс А[рундейл], Мохини. Наилучшие пожелания и сердечный привет! Всегда Ваша Е.П.Б[лаватская].
Среда Мой дорогой м-р Синнетт! De mieux en mieux! [Всё лучше и лучше! — (лат.)] Прилагаю письмо Олькотта с копией письма Лейна-Фокса — которого его карма да погребет под своими развалинами! Это выдумка Хьюма. Продать мой «Theosophist»? Почему бы не продать сразу и меня, и Общество, если мы превратились в столь ходкий товар? Я немедленно телеграфировала: «Категорически отказываюсь продавать “Theosophist”» — в Адьяр и тотчас послала знаменитые 3 фунта 16 шиллингов или около того. Теперь я намереваюсь бороться не на жизнь, а на смерть, и заклинаю Вас именем Учителя время от времени помогать хорошими статьями моему несчастному журналу — детищу моего сердца. Находящийся сейчас в Лондоне Хьюм, конечно, строит козни и плетет интриги кое с кем из Лондонской ложи — с миссис Кингсфорд, с которой он состоит в пылкой переписке, будучи влюбленным в нее заочно, с нашим другом миссис К[упер]-О[укли], обязанной ему за деньги на дорогу сюда; с тем, с другим, с третьим. Я действительно думаю, что с Вашей стороны было бы более дипломатичной и лучшей политикой встретиться с ним, если он сможет. Но потом он сказал, что «презирал Вас за Вашу доверчивость» в Адьяре. Ну что ж, в той части небосклона, где он, тучи очень черны — поскольку он неразборчив в средствах, берет за ложь очень дешево, когда она отвечает его целям, он еще тот иезуит, когда нужно. Наша карма, спаси нас! Получила письмо миссис Синнетт от 12-го числа, в котором говорится, что я ей не писала. Да ведь я послала ей и Вам грандиозное письмо, общее, после получения марок и Ваших книг, и одно Вам. И теперь мне не терпится узнать, получила ли миссис Синнетт это мое письмо о секретных делах в большом голубом конверте? Сообщите мне, пожалуйста, с обратной почтой. Я ни в коем случае не хотела бы его потерять. Бедный Падшах! Все его усилия, напряжение, его священные обеты — всё, всё пропало, потому что его пятый принцип так развит и тащит его в Кембридж, в то время как шестой дремлет, полуслепой и не способный воспринимать Учителя. Бедный мальчик! Ну почему люди не могут отделить жалкую меня от Учителей, почему бы им не презирать, не отвергать меня, не изрыгать проклятья в мой адрес, но оставаться верными и преданными самой истине?! Мне действительно грустно, ибо даже те, кто добродетельны, все-таки отступают. Послала Вам двадцать франков: десять дал мне Тедеско, остальные десять — на «Пять лет теософии». Попросите Мохини купить и прислать мне эту книгу, так как Гартман забрал свою подшивку (пять томов) «Theosophist», и я теперь поистине «бестеософна». Ну, чтоб закруглиться, у меня был веселенький приступ сильнейшего сердцебиения, который чуть не унес меня недавно ночью, — карма разговоров с утра до ночи в течение недели с 6-7 посетившими меня людьми. В полночь Хюббе-Шляйден привез врача, и с помощью морфия и дигиталиса, всеми правдами и неправдами ужасные удары сердца, которое, казалось, взбесилось, были прекращены. Но я счастлива сообщить, что имеет место чудовищное расширение (или увеличение?) сердца, которое должно и непременно одолеет меня. Пребывающая в этой сладостной надежде, вечно Ваша Е.П.Б[лаватская].
9 октября 6, Людвиг-штрассе, Вюрцбург Дражайшая миссис Синнетт! Прежде всего тысяча благодарностей Вашему деспоту за его 4 книги и 10 тысяч благодарностей за марки! Это доставит удовольствие старой тетушке. Покончив со светлой стороной жизни и должным образом возблагодарив Провидение в лице двух ваших величавых персон, я вынуждена вновь обратиться к ее темной стороне. А на этом направлении «избыток богатства» становится обременительным, поэтому даже не знаю, с чего начать. Однако полагаю, Вы слышали о первой пощечине, полученной мною в Адьяре? Не спросив меня, они, видимо, распорядились моим «Theosophist» и выкинули мое имя даже с его титульного листа. Раз так — и если сообщение Ниварана станет тому подтверждением, тогда с меня и в самом деле хватит! Никогда больше ни строчки из-под моего пера не выйдет в журнале, моей кровной собственности, которую у меня так бесстыдно отобрали, — а это, помимо всего прочего, самоубийственно, причем более, чем запрет на памфлет «Защита». Теперь общественность и враги заявят: «Госпожу Б[лаватскую] и в самом деле выгнали из Общества — у нее забрали даже редакторство и право собственности на ее журнал. В Адьяре ее вина полностью признана». Аминь. С тех самых пор как Д.Н[атх] вернулся домой, надо мной нависла черная туча, и она так и не рассеялась еще и потому, что в течение 5 или 6 дней мне не выпало и получаса, чтобы поговорить с ним. Прибытие д-ра Г[артмана] послужило сигналом к приезду профессоров Селлина, Хюббе-Шляйдена и двух моих дорогих Шмихенов, и на целую неделю в моей квартире развернулась ярмарка. Я была зла, как черт. Мне пришлось уступить Гартману мою (собственную) комнату и проспать 6 ночей подряд на диване в своем кабинете. Магнетизм этого человека вызывает дурноту, его лживость омерзительна, его клевета на Хюббе-Шляйдена и его козни просто необъяснимы, если не оправдывать это тем, что он либо маньяк, практически не несущий ни за что ответственности, либо позволил овладеть собой духу своего собственного дугпа. Он чрезвычайно дружелюбен со мной — и всё время старался делать мне всякого рода пакости. Сообщил мне, что переписывался с людьми из Общества психических исследований, которые предлагали ему членство (!!), и что хотя он и отказался, но всё же готов это предложение принять, если бы я так велела, поскольку тогда он смог бы защитить меня и поддержать перед лицом общественности, так как имел бы возможность хоть что-то рассказать из того, что я бы ему сообщила. Я ответила, что не желаю высказывания никакой лжи, ее и так в Обществе психических исследований было предостаточно и без его помощи, а хочу я только одного — истины и справедливости. Интересно, правда ли, что ему предложили членство, или это всего лишь еще одна выдумка? Попытайтесь, если можно, это выяснить. Теперь — строго секретно и только лично для вас двоих. Я решительно убеждена, что Д.Н[атх] ничего лично против вас не имеет. Он испытывает величайшее расположение и уважение к вам обоим и благодарность к м-ру Синнетту. В Париже он от кого-то услышал (и хотя имени этого «кого-то» он не назовет, я догадываюсь, о ком идет речь), будто м-р Синнетт, находясь в Париже, заявил, что все индусы в штаб-квартире лжецы, и от этого он просто впал в отчаяние, заключив, что каждое сказанное им м-ру Синнетту слово будет принято за ложь. Да я уверена, что м-р Синнетт ничего подобного не произносил, а если и сказал, то даже и не предполагал включать в эту категорию нашего друга Д.Н[атха]. Он страшно, болезненно обидчив, и порой это принимает гипертрофированные размеры. Он, кто был таким искренним, веселым, добродушным, стал мрачным, замкнутым и так легко раздражается по малейшему поводу, что все боятся говорить с ним, особенно в присутствии других людей. И по крайней мере сейчас, я от него наконец узнала, что его возвращение к своему Учителю зависит от восстановления прежнего статуса Т[еософского] О[бщества]: и пока в Обществе дела снова не пойдут гладко, хотя бы с внешней стороны, ему придется, по его словам, оставаться в изгнании, так как его Учитель — Махатма К.Х., видимо, возлагает на него, Дамодара и Субба Роу ответственность за две трети, как он выражается, «майи» м-ра Ходжсона. И это именно они раздражались и чувствовали себя оскорбленными при его появлении в Адьяре, посчитав его (Ходжсона) перекрестный допрос и разговоры об Учителях унизительными для себя и богохульными в отношении Учителей; и вместо того чтобы поговорить с Х[оджсоном] откровенно и прямо ему заявить, что существует много такого, о чем они не могли ему рассказать, они продолжили работу, дабы привести его в еще б'ольшую растерянность, позволяя ему измышлять факты, их не опровергая, и уж совсем выбили его из седла. Ходжсон, видите ли, ошибся в расчетах, ведь он не имел никакого понятия о характере настоящего индуса, особенно челы, — о его доходящем до крайности преклонении перед тем, что для него свято, о его сдержанности и замкнутости в вопросах религии; и они (наши индусы), от которых даже я никогда не слышала, чтобы они произносили имена Учителей или упоминали хоть об одном из Учителей, называя их по имени, — впадали в ярость, слыша, как Ходжсон превращает Их имена в какую-то дешевку, со смехом обсуждая с Оукли К.Х., и М., и т.д. И, к сожалению, именно мне приходится теперь за всё расплачиваться! Есть и еще кое-что, и это совершенно ужасно. Д.Н[атх] показал мне приказ от своего Учителя, написанный на телугу, отправляться с мисс А[рундейл] и Мохини в Париж и Лондон и постараться спасти Общество от еще одного скандала, в десять раз худшего, нежели нынешний. Он спас положение, и всяческая ему слава, бедный мальчик! Но он нажил себе в Париже врагов, ох! из-за ужаса, тошнотворного, омерзительного ужаса от всего происходящего. Поговорим о «внутреннем круге», о Восточной группе! Хотя со всеми ее мессалинами ее следовало бы назвать Римской группой. Мой дорогой, любезный друг, я не могу полагаться на газетную брань — это уж слишком мерзко. Но если Вы когда-нибудь в самой глубине души и уединении собственной комнаты роптали и по поводу допущенной несправедливости (я-то, конечно, ворчала), и видя, как много усилий оставались незамеченными и не находили поддержки, а еще и при наличии столь многих преданных теософов, готовых, по их словам, пожертвовать своими жизнями ради дела и Учителей, — и оставленных последними без внимания, — то больше так не поступайте! Если Содом понес справедливое наказание, значит, это постигнет и Восточную группу. Если бы Учителя были людьми и наказывали, вместо того чтобы предоставлять событиям идти своим чередом и обрушиваться под собственной тяжестью, — и м-р Синнетт и Вы, я воистину верую, стали бы единственно спасшимися Лотом и его женой. Так что не рискуйте быть превращенной, подобно миссис Лот, в соляной столб — не просите меня сказать больше, чем я могу, а наблюдайте и постигайте сами. Я уже была наказана за свое любопытство и принуждение бедного, славного Д.Н[атха] раскрыть мне правду, и мое сердце — от ужаса — обратилось в столб из ледяного мрамора. Уж лучше бы я никогда не услышала ничего подобного. Но знаю одно: та англо-французская мессалина, кто, заманивая Мохини в Барбьянский лес и видя, что ее словесные авансы пропали даром, вдруг — сбросила до талии свои просторные одежды, оставшись перед юношей обнаженной — еще не худшая в Восточной группе. Из всех этих непорочных весталок она всего лишь самая откровенно развратная, но отнюдь не самая похотливая или грешная. На нее не было возложено никакого священного долга. Должно быть, она кокотка по натуре и темпераменту — она не ханжа и не стремится к праведности в глазах общества. Но существуют в этой группе и другие, и не кто-то один, а четверо, охваченные постыдной дикой страстью к Мохини, — с тягой старых гурманов к необычной пище, например, тухлому лимбургскому сыру с червями, дабы усладить свои пресыщенные вкусы, — или же отвратительных стариканов с Пэл-Мэл к запретному плоду — десятилетним девственницам! Ох уж эти грязные скоты! Кощунствующие лицемерные шлюхи! Простите меня, дорогая, за эти слова, но я никогда не смогу, сдерживая свои чувства, оставаться беспристрастной. Не заявляйте сами и не давайте м-ру Синнетту говорить, что всё это «чепуха». У меня имеются все доказательства: письма, записки и даже признания,собственноручно написанные признания миляге Д.Н[атху], с просьбами, как Вы думаете, чего — простить их? О нет, всего-навсего помочь им удовлетворить их нечестивую страсть, то есть повлиять на Мохини и заставить уступить им «раз, только один раз!». Преклонимся же все перед чистотой бедного индусского юноши. Ни один европеец, скажу я Вам, не выдержал бы такого нажима. Как же он был глуп, как мало в нем было самодовольства, что к моменту, когда Д.Н[атх] прибыл с указаниями от своего Учителя, дабы открыть тому [Мохини] глаза и защитить его, он [Мохини] так и не понял, к чему клонили эти особы женского пола. Скажу по секрету, одна из них — это Х[оллоуэй]; двух других я никогда не смогу назвать и не назову. Златовласая секретарша <...> [Холлоуэй] зашла так далеко, что написала в трансе «приказ» от какого-то неизвестного «великого Адепта Лоренцо», повелевающий Мохини в ловко сформулированных выражениях превратить Х[оллоуэй] в свое alter ego [второе “я” — (лат.)], а свое собственное тело — как уж там ему заблагорассудится — сделать единым с ее телом, причем такое единение было абсолютно необходимым для совершенствования обоих, ибо психическое должно подкрепляться физиологическим и наоборот. Мохини и поступил «как ему заблагорассудилось». Он как дурак порвал это послание, но, к счастью, Д.Н[атх] нашел обрывки, и теперь они у него. Вскоре кто-то из этих лондонских потифаров, впав в ярость, решит действовать иным путем и поступит подобно миссис Потифар из «Фараонов», то есть свалит свои собственные грешки на Мохини — погубит его репутацию и Общество. Д.Н[атх] получил от него на сохранение все эти послания и добавил к ним то, что собрал лично сам, — получилась любопытная коллекция. И при таком положении дел верить, что Учителя приблизятся к Восточной группе хотя бы на 100 миль?! Но что Вы подумаете о женщине, которая, осознавая невозможность того, что Мохини хоть когда-нибудь отнесется благосклонно к ней, представшей в таком свете, понимая, что он невинен и ему назначено сохранить свою чистоту челы и целомудрие, что, короче говоря, ей нечего даже и надеяться стать средством его первого падения, и которая, чтобы облегчить себе это дело и будучи даже готовой, в своей первой жестокой к нему страсти, принять объедки от другой, — оказывает всяческое содействие и помощь той другой (Б.), дабы совратить Мохини!! Всё это содержится в исповеди № 2 (ибо имеется две, от двух сторон, — и теперь Учитель, скажем так, не помогает!). Несчастная женщина страдает ужасно. Она, как я горячо надеюсь, наконец полностью отказалась от этой идеи и испытывает к себе самой отвращение. Но раскаяние не может уничтожить поступок. И, о Боже, пущены в ход даже «кинжалы», «убийство», и тому подобные угрозы. Последнее послание от Б., отправленное Бабаджи Д.Н[атху], — это пророческое видение на восьми страницах большого формата, где имя Учителя упомянуты лишь для поношения, а за слова, вложенные в Его уста, Бабуле было бы просто стыдно. В том пророчестве она видит себя убивающей Мохини кинжалом, купленным в «Пассаже Жуфруа». И что мы теперь должны делать? Вы, мне кажется, теперь понимаете, почему портился «вежливый тон» бедного Д.Н[атха] и пользуется столь высоким спросом в Лондоне его «расположение». Этот славный юноша — просто молодчина. Отбросив изящные манеры, он без обиняков высказал «огнедышащим» леди четыре истины[4]. Всем им он выказал огромное неуважение и презрение, до смерти запугал их негодованием своих Учителей, призвал на их распутные головы все тибетские громы и молнии и пообещал, что в следующем воплощении их живыми по шею закопают в мерзлую землю и хищные стервятники выклюют им глаза и продолбят дырки в их головах за то, что они посмели совращать челу. «Никогда не забуду, — пишет одна из них, — Ваш справедливый и праведный гнев, но сжальтесь, сжальтесь же надо мной, бедной слабой женщиной! И попросите своего друга (Мохини) не быть со мной столь жестоким!» О, Дхиан-Коганы и непорочные девы, скройте свои печальные лица и спасите бедное Т[еософское] Общество! И куда же, если так будет продолжаться, мы зайдем? И ради Бога, и Вы, и м-р Синнетт, храните всё это в самых укромных уголках ваших сердец. Во имя дела, оплеванного и растоптанного, храните молчание, но в то же время как можно зорче следите, как бы еще чего-нибудь не случилось. И одной из этих 4 мессалин хватило бы, чтобы погубить дело навсегда. А Адьяр! Гляньте, как эти теософы любят друг друга! Теперь Ледбитера обвиняют в том, что из вполне доброго и милого человека он под влиянием м-ра Оукли превратился в плохого англо-индийца! Он обвиняется и в том, что дурно высказывался обо мне, и Бог еще знает в чем! До свидания. Впереди полный мрак, и в тех густых черных тучах я не вижу ни одного светлого пятна. Хюббе-Шляйден сожалеет, что приехал слишком поздно; он хотел встретиться с Вами и разъяснить ситуацию. Д-р Г[артман] строит жуткие козни, всех восстанавливает против него, смеется и выставляет его неспособным стать президентом; стремясь сам быть избранным президентом, и т.п. Всё идет как по нотам. Навеки Ваша, кроме шуток, пребывая в полнейшем отчаянии, Е.П.Блаватская. Почти достоверное изложение 1/8 всей истины. М.
[1] «Карма» — повесть А.П.Синнетта. [2] «Баркис не прочь»... — Выражение взято из романа Ч.Диккенса «Давид Копперфилд». [3] Паи — мелкая индийская монета. [4] Четыре истины. — По-видимому, речь идет о «четырех благородных истинах» буддизма: существование страдания, существование причины страдания, страдание можно прекратить, существует путь избавления от страдания.
|
