


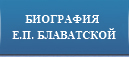
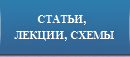
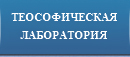

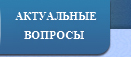
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Е.П.Блаватская Письма А.П.Синнетту
Письма 71-80
Пожалуйста, сохраните это в строгом секрете Мой дорогой м-р Синнетт! Моя телеграмма оказалась бесполезной, ну значит — быть посему. Вы на ложном пути и совершили оплошность. Вы неправильно поняли меня. Он имеет такое же право называть себя Дарбхаджири Натхом, как и Бабаджи. Есть — настоящий Д.Натх, чела, находящийся в течение последних тринадцати или четырнадцати лет у Учителя К.Х.; тот, кто был в Дарджилинге, и это именно о нем писал Вам Махатма К.Х. в Симле. В силу причин, объяснять которые я не могу, он остался в Дарджилинге. Вы слышали его один раз, Вы никогда не видели его, но видели его портрет, его альтер эго (второе «я») в физическом смысле и его диаметральную противоположность в нравственном и интеллектуальном смыслах и т.д. Жульничество Кришнасвами, или Бабаджи, заключается не в принятии им имени, ибо это тайное имя, выбранное им, когда он стал челой Махатмы, а в том, что он воспользовался печатью молчания на моих устах, ошибочными представлениями людей о нем, думавших, что он, этот нынешний Бабаджи, был высшим челой, тогда как он всего лишь находился на испытании, а теперь отвергнут (о чем он еще пока ничего не знает, так как мне сказано и приказано сообщить это Вам частным образом и конфиденциально и никоим образом не ему, потому что он либо покончит с собой, либо погубит в отместку Общество). А теперь не спрашивайте меня ни о чем больше, потому что если бы мне было суждено быть повешенной, публично высеченной, подвергнутой пыткам, я бы ни за что и никогда не осмелилась рассказать Вам что-либо еще. Вы говорите о «жульничествах», тайнах и умалчиваниях, в которых мне не следовало бы «никоим образом оказываться замешанной». Очень легко рассуждать тому, кто не связан никаким обязательством или клятвой. Хотела бы я, чтобы Вы, с Вашими европейскими представлениями о правдивости и «кодексе чести» и всякой всячине, попробовали бы в течение пары недель. А теперь выбирайте: либо обнародовать то немногое, что я знаю и что мне разрешено сообщить Вам для Вашей собственной ориентации — и бросить таким образом еще одну тень позора на благословенных Учителей — на Махатму К.Х., который представил Вам и рекомендовал своего собственного челу — и считаться к тому же обманщицей, лгуньей, которая подсунула Вам испытуемого первого года, заставив Вас поверить, что он был Его любимым челой, жившим с ним десять лет, — или хранить тайну, потому что люди никогда не поймут ни всю правду, ни даже спиритуалистов. Скажите спиритуалисту, что дух, «дорогой усопший», вошел в какого-то медиума, который таким образом воплотил дух покойного, приняв на время его подлинные черты и став точной копией этого духа, — и каждый спиритуалист поверит и поддержит Вас. Скажите им, что один живой Д.Н[атх] пришел к Вам в Симле, а другой, живой Д.Н[атх], прототип первого, остался в Дарджилинге и по-прежнему остается и живет в настоящее время, прямо по сей день, с Учителями, — и люди назовут всех нас лжецами, обманщиками и пустозвонами. И даже всё это было бы ничто в сравнении с новым святотатством — с громко высказываемым или даже подразумеваемым предположением, что Махатма, кем бы Он ни был, в этом деле своим поведением всех ввел в заблуждение. Это именно незнание оккультных взаимодействий обеспечило такое влияние Ходжсону, Мэсси и другим. Это как раз мое обязательное абсолютное молчание заставляет меня ныне жить под обрушивающимся со всех сторон людским презрением. Это быть или не быть: мы, преданные Учителям оккультисты, должны либо смириться с Их законами и приказами, либо расстаться с Ними и оккультизмом. Я знаю одно: если бы дошло до худшего и правдивость Учителя и Его представления о чести нужно было бы подвергнуть сомнению, то я прибегла бы к отчаянному средству. Я бы открыто объявила, что я одна лгунья, фальсификатор, всё то, чем Ходжсон хочет меня представить, что я действительно придумала Учителей, и таким образом защитила бы с помощью этого «мифа» об Учителе К.Х. и М. настоящих К.Х. и М. от святотатства. Что спасло ситуацию в отчете, так это то, что существование Учителей напрочь отрицается. Попытайся Ходжсон прибегнуть к хитрости и подбросить идею, что Они помогают, или вдохновляют, или даже поощряют обман своим молчанием, — как я бы тут же выступила и объявила себя перед целым светом всем, что говорилось обо мне, и исчезла бы навеки. В этом я клянусь «благословением или проклятием Учителя»: я отдам тысячу жизней за Их честь в сознании людей. Я не увижу Их оскверненными. А теперь поступайте, как Вам будет угодно. В телеграмме я просила Вас ничего не писать и не говорить Боваджи. В настоящий момент благодаря этому обвинению он имеет власть над нами, а не мы над ним; так как он достаточно хитер, чтобы понять, что какова бы ни была известная Вам, графине и мне правда, — мир в общем не поверит этому, и что таким теософам, как, например, Гебхарды, пришлось бы только выбирать между его словом и моим. И он настолько настроил их против Олькотта, меня, феноменов и даже Ваших доктрин эзотерического буддизма, он до такой степени внушил им веру в то, что я психологически обрабатываю графиню и Вас, что потребуется колоссальный труд, чтобы уничтожить сделанное им. Мохини, как индус, несомненно, встанет на его защиту и теперь, так как и сам он в беде, может объединиться с ним (Боваджи), хотя я и не уверена; всё зависит от того, виноват ли Мохини или нет в случае с [мисс] Леонард. Если виноват, — тогда он негодяй и лицемер, способный на всё. Если же нет, то он мученик. Понимаете, я совершенно ничего не знаю о нем, о Мохини. Что мне известно о нем, о его настоящей внутренней жизни, за исключением того, что позволяют мне узнать и говорят Учителя? Возможно, он самый страшный злодей и Учителя давно отказались от него как от испытуемого — я знаю за что. Но я надеюсь, что он невиновен, ибо я очень к нему привязана, больше, чем он представляет. Я так одинока, так несчастна в своих земных человеческих привязанностях, что, потеряв всех, кого люблю, — по причине смерти и связей с Т[еософским] О[бществом] (моя сестра, например, которая пишет мне грозное письмо, называя меня изменницей, «святотатственным Юлианом Отступником» и «Иудой» по отношению к Христу), люблю двух мальчиков. Итак, я чувствую, что с Мохини всё в порядке в нравственном отношении, но, Боже милостивый, если он пробудет в Лондоне долго, он пропал! Ну и, будьте добры, чуть-чуть о деле. Мохини совершенно необходим мне для «Тайной Доктрины», словаря санскритских слов и тому подобного, пока он не приедет или не перепишет все эти слова из посланий, которые я Вам пришлю. Я никоим образом не смогу закончить к следующей сессии, и эта работа — «шпилька» иного рода, чем «[Разоблаченная] Изида». Здесь в одной вводной главе больше тайн посвящения, чем во всей «[Разоблаченной] Изиде». А то, что происходит потом, еще интереснее. Но я совершенно истерзалась по поводу ее технической компоновки. Я писала и переписывала эту проклятую главу раз двадцать. Я вырезала и переставляла абзацы, и части, и разделы, и подразделы, пока мне это не опротивело. Учителя с причудами, выдают секрет даже! «божественного гермафродита» и т.д. Пожалуйста, храните теперь тайну Боваджи. Посылаю Вам его сегодняшнее письмо — копии с Ваших писем ему и его Вам. Пожалуйста, внимательно сравните его оригинал и эту копию, потому что у меня есть основания считать, что он кое-что добавил в той копии, в которой я обнаруживаю избыток его вранья. Но всё равно — он прав, называя обвинение в присвоении имени Д.Н[атха] ложным, выдумкой, ибо никогда ничего такого не имелось в виду. Что я говорила и повторяю, так это то, что он не является настоящим Д.Н[атхом], челой, который жил со своим Учителем так много лет. И всё же он чела, пока Учителя не объявили его открыто и через «Theosophist», что он не оправдал ожиданий, — и он Д.Н[атх], причем это, как он правильно говорит, — его тайное имя. Ваша Е.П.Б[лаватская]. Я получила письмо из России, из Москвы, с предложением, если оставлю антихристово (!!) Т[еософское] О[бщество], тысячи рублей золотом (пять тысяч франков) ежемесячно и контракта на несколько лет на исключительное сотрудничество в двух газетах. Ну, дай им Бог!
Мой дорогой м-р Синнетт! Я велела Вам не говорить ни слова о Д. Н[атхе]. Я не могу сообщить самую малость, не разболтав миру всего, если Вы предадите это гласности. А если я это сделаю, то Лондонская ложа действительно будет уничтожена, даже если и Боваджи и я будем уничтожены вместе с нею. Боваджи, согласно индусскому обычаю, имеет право принять любое тайное имя по своему выбору — даже если, возможно, существует другой человек с таким же именем. Вы один кое-что знаете и, возможно, подозреваете, наслушавшись упоминаний и слухов в Индии о том, что существуют два Д.Н[атха]. Но я не могу подтвердить это, не разгласив всего, о чем мне было приказано хранить молчание. Когда же (о Господи, когда!) Вы поймете, что наши законы и правила — это не ваши (европейские) законы и правила? А теперь, будьте добры, сделайте в данном случае, как я Вам говорю, если не хотите навлечь на наши головы еще один и еще худший скандал. Я получила письмо от мисс Арундейл, которая сообщает, что Боваджи приезжает в качестве их «личного гостя» в воскресенье — сегодня — в то время, как Вы читаете это письмо. Единственное, что Вы можете сделать, чтобы спасти положение, это послать за мисс Арундейл и передать прилагаемое письмо к ней и прочитать его вместе с ней, а потом показать ей письмо графини к Вам, на что она, по ее словам, дала свое разрешение (разве Вы не получили ее письмо, написанное для этой цели?). Пусть мисс Арундейл, столь преданная делу и Учителям, узнает всё, что знаете Вы, с обязательством пока хранить тайну. Пусть она, если малыш уже там, скажет ему, что всё в порядке, и пусть он успокоится, а потом понаблюдайте за ним и посмотрите, что он говорит и что делает. Если он будет сдержан и не причинит никакого вреда, то зачем же и нам причинять ему вред? Он чела, каково бы ни было его истинное лицо, — это дело его Учителя, а не наше, отвергнуть его и презрительно относиться к нему. Умоляю Вас, ради Бога, не толкайте меня на крайний шаг. Я более не беспокоюсь о своей репутации. Я хочу только, чтобы Их святые имена оставались незапятнанными в сердцах тех немногих теософов, которые знают Их, верят в Них и чтят Их, каковы бы ни были мои ошибки и провинности, а равно и вероломные поступки других людей. Но чтобы сохранить Их незапятнанными, мне теперь придется пойти на отчаянный шаг, потому что мальчик тоже будет доведен до отчаяния за поступок, который он совершил, безусловно, в припадке безумия. Вы слишком «прозаичны», мой дорогой м-р Синнетт, и это Ваша ошибка во всех теософских вопросах. Посоветуйтесь с мисс А[рундейл] и помните, что к явлениям нашего оккультного мира не следует подходить с мерками вашего мира. Впопыхах, Ваша Е.П.Б[лаватская].
Дорогой м-р Синнетт! Это снова моя вина, моя неточность в выражении своих мыслей. Мне следовало бы написать: «Он присвоил положение настоящего Д.Натха. Помимо того, что ему было приказано говорить, — сплошная ложь (совершенно бесцельная); и если бы была сказана вся правда, то он был бы (признан) виновным (непосвященным миром и всеми профанами) в мошенническом обмане». И так и было бы. Я не делаю из него безусловно безупречное существо даже с точки зрения оккультного мира, о котором толкую, — не более безупречное, чем я. Но я говорю, что если у него было право назваться Дарб[хаджири] Натхом, то он не имел никакого права злоупотреблять этим, присвоив положение, на которое имел бы право только настоящий Д.Натх и которое он, несмотря на это, никогда не займет. Он знает и полностью признаёт это — вот почему я усмирила его. И это как раз потому, что он ясно представляет себе тот факт, что «смешавшись с европейским Движением, путаницы подобного рода должны (не только попутно, но неизбежно) порождать зло», — и что я смогла запугать его и спасти таким образом эзотерическую доктрину, наше учение и всё в целом от нового скандала как на основании ложных (в оккультном), так и вполне правильных обвинений в житейском обманчивом свете, который всё представляет вверх ногами. Графиня знает всё (кроме одной вещи, которую она не должна знать); и она говорит, что даже если бы была известна вся правда, то я никоим образом не была бы виновата, потому что только выполняла свой долг по отношению к Учителям; и что он воспользовался положением, предоставленным ему на время, чтобы навредить мне, и делу, и нескольким теософам, которые видят в нем настоящего Д.Н[атха], высшего челу, вместо его отражения. Я тоже несколько раз и на месяцы превращалась в отражение, но никогда не злоупотребляла этим, чтобы подсунуть свои личные махинации тем, кто принимал Е.П.Б. из России за высшего посвященного, чьим телефоном она время от времени бывала. И именно поэтому Учителя никогда не лишали меня своего доверия, даже если так поступали все остальные (за исключением очень немногих). Мое положение просто чертовски отвратительно — потому что я, будучи европейского происхождения и воспитанная, как и любой другой, в житейских понятиях правды и чести, — должна мириться со всяческими проявлениями мошенничества и обмана в отношении моих лучших друзей — тех, кого я люблю и чту больше всего. Но таков результат служения оккультизму и вынужденной жизни в нечестивом и публичном мире. Соловьев внезапно набросился на меня как бешеная собака — по причинам, в высшей степени таинственным для меня. Он ссылается на то, что я произнесла слова, которые я сама слышу впервые: «Ах шельма, уже второй раз разыгрывает нас подобным образом» и т.д., когда я знаю, что никогда не могла бы их произнести, что они были бы дьявольской ложью, если бы я их произнесла, потому что Мохини, насколько мне известно, никогда не изменял своему положению челы с тех пор, как вступил в Общество, — что же касается того, что он делал раньше, то это меня мало интересует и не мое это дело. Он мог бы изнасиловать и совратить 20 девственниц в возрасте от 10 до 80 лет, включая его собственную бабушку. В нашем Обществе нет безупречных, и если бы мы принимали только таких, то в нем остались бы пустота и ничто вместо живых членов. То, что я, помнится, сказала Соловьеву, — не в тот день, когда вскрыла письмо, а в какое-то другое время, — я не могу повторить несчастному Мохини. Рассуждая о пользе, принесенной Обществом во имя Учителей, я рассказала ему, каким развратником, сластолюбцем и пьяницей был отец Мохини и как теперь он стал настоящим йогом. Понял ли он это неправильно или исказил намеренно, я не знаю, — но если верно последнее, то, соединив это с несколькими грязными сплетнями, рассказанными о Мохини Ходжсоном, он, должно быть, смешал всё в кучу и преподнес это в качестве свидетельства против него, чтобы угодить мадам де Морсье. Хотела бы я, чтобы Парижское Общество и половина Германского были разгромлены. И если это будет продолжаться — я разнесу их сама, как приказано. Соловьев взъярился на меня из-за своей неудачи в том, что Вы знаете и о чем я Вам рассказывала. Но я доверяю и полагаюсь на Вашу честь в том, что Вы не повторите ни это, ни что-либо еще из сообщаемого мною. М-р Синнетт, Вы мой последний настоящий друг среди мужчин в Европе. Если бы Вы стали презирать меня — думаю, я покончила бы с собой. Я научилась сочувствовать Вам до такой степени, до какой, как мне казалось, я никогда бы не смогла сочувствовать англичанину или даже русскому. Я прощаю Англию — ради Вас. И я знаю, Учителя чтут Вас в своих сердцах. Ваша вечно Е.П.Б[лаватская].
Мой дорогой м-р Синнетт! Ваш набросок для «Times» великолепен. Я была готова переписать и отослать его — как вдруг ужасная мысль молнией пронеслась у меня в голове. Слушайте, как бы ни был грандиозен скандал, он ведь доходит только до тех, кто интересуется феноменами. Допустим, мое письмо напечатают в «Times» (не могу сказать, почему сомневаюсь в этом, но сомневаюсь). Названное в нем подлым и обвиненное в неджентльменском поведении, всё Общество психических исследований набросится на меня, и в «Times» на меня посыпятся ответы с дальнейшей клеветой и обвинениями. У каждого найдется, что сказать. «Times» читают все — следовательно, новая клевета или повторение старой получит дальнейшую огласку. Ну и что мне тогда делать? «Times» откажется печатать слишком длинные ответы всем, и тогда я снова потерплю поражение и в самом деле буду публично опозорена. Подумайте об этом и телеграфируйте «Да» или «Нет»; или только в том случае, если Вы действительно хотите, чтобы я всё же послала это в «Times». У меня была мысль напечатать протест и широко распространить его среди теософов и спиритуалистов и особенно в Индии, чтобы заставить их понять, как несправедливо со мной обошлись. Посоветуйтесь, пожалуйста, об этом и ответьте. Мое сердце восстает против «Times» как против чего-то очень для меня опасного. Кто я — бедная несчастная старая русская, беспомощная и беззащитная, и представьте себе, какую силу представляют собой они. Вы единственный можете бороться с ними безнаказанно. Мне вообще безразлично мнение общества. Но меня очень волнует мнение тех, кто знает меня. Этот протест мог бы быть написан даже еще более решительно, если он пойдет в «Theosophist» и будет распространяться среди тех, кто читал отчет. Поступайте как Вам угодно. Вы лучше знаете, а я целиком отдаю себя в Ваши руки. Всегда Ваша, с благодарностью, Е.П.Блаватская.
Мой дорогой м-р Синнетт[1], я считаю, что Ваше письмо превосходно, но трепещу при мысли о помещении его в «Times». Прежде всего, по всему свету распространятся эти клевета и ложные обвинения, а затем поступят ядовитые и жестокие ответы. Мэсси, Майерс и все они. Однако Вы англичанин и хорошо знаете общепринятые нормы поведения, так что спокойно продумайте всё это сами, взвесьте последствия, а затем дайте ответ. Если бы дело касалось только занятия шпионажем, это было бы отлично. Но подумайте об ответах, как они притянут сфабрикованные письма и т.д., как они призовут ее заявить о своей невиновности в суде — хорошенько обдумайте всё это, а потом дайте нам знать. Госпожа целиком и полностью вверяет себя Вам. А теперь о ее «Мемуарах», в которых, безусловно, должны быть опущены три вещи: в первую очередь, усыновленный ребенок, так как в этом вопросе многие могут вытащить на свет Божий неприятные семейные тайны, — опять же, Госпожа так много путешествовала в мужской одежде. Разве в Англии есть закон, карающий женщин за подобные вещи? Как бы там ни было, это шокировало бы английское ханжество — и, наконец, никаких упоминаний о Махатмах, Их имена и так уже достаточно осквернены. Сохраним же Их священными для будущего. Доктор дал мне понять, что Госпожа всё еще девственница. Искренне Ваша К[онстанция] В[ахтмайстер].
Доверительно Прилагаю медицинскую справку проф. Оппенгеймера, проведшего тщательное и точное обследование, «так как моя болезнь оказывается теперь осложненной, как он говорит, некоторой врожденной изогнутостью матки, имеющей, кажется, какое-то отношение к деторождению (матка вообще, а не моя или ее изогнутость) и (хотя у меня всегда было смутное представление о том, что матка — это то же самое, что мочевой пузырь) изогнутость которой сразу же убьет миссионеров и их надежды доказать, что я являюсь матерью трех или более детей. Он написал длинное и сложное заключение с изложением причины, почему я никогда не могла иметь не только детей, но и вообще выродить из себя хоть что-нибудь, так как если не сделать теперь операцию, они не смогут и добраться до этой чертовой матки, чтобы вылечить ее. Я подумала и отказалась. Лучше умереть, чем делать операцию. Но знание этого (справка), вероятно, должно быть истолковано в мою защиту — я не позволила ему углубиться в физиологические подробности и попросила просто удостоверить тот факт, что у меня никогда не было никакого ребенка или детей и я вообще не могла их иметь. Что же будут говорить дальше? Ваша опозоренная на старости лет Е.П.Блаватская. Франц Гебхард и Хюббе-Шляйден перевели справку для Вас. Д-р (Оппенгеймер) говорит, что гинекологическая болезнь подразумевает «женские функции» и указывает на нетронутость (как говорит мадам Нари из дела Стеда), и как смущенно объяснил мне Хюббе-Шляйден, «это деликатный и научный способ выражения, и очень ясный». Не показывайте этого никому — я пишу это Вам как самому близкому другу, — такой стыд говорить об этом, хотя я решила, что моим друзьям и защитникам следует это знать. Сохраните справку.
29 января 1886 г. Дорогой м-р Синнетт! Прилагаются результаты кармы за защиту невиновного, хотя и глупого человека, и — за написание частных и конфиденциальных писем женщине истерического характера. Скажите мне, пожалуйста, что я должна делать? Графиня говорит, что мне надо либо поехать в Лондон и объявиться; либо Германия выдаст меня Англии; либо меня заставят заплатить 100 фунтов за неявку в суд; или, может быть, повесят прежде чем я умру, перенеся предварительно где-нибудь пытку. Таким образом, оказывается, что человек, отрицающий, что другой человек был введен в заблуждение злонамеренно, в Англии обязан отвечать перед законом или несет ответственность перед законом. Разве записка, частная и конфиденциальная, если даже имя «оклеветанного» лица не названо, — составляет пасквиль? Неужели? Тогда всё, что я могу сказать, так это то, что я предпочла бы жить по китайским и даже российским законам. Будьте добры, немедленно дайте мне знать, что я должна делать. У Вас есть мое заявление, адресованное вашему Совету, для расследования донжуанского преступления Мохини. Удары кармы следуют так поспешно один за другим, так быстро и неожиданно, что это подействовало на мои нервы — или, скорее, на наши нервы, — и что мы с графиней сидим, глядя друг на друга, и корчимся от смеха. Из Бомбея никакого ответа; удручающе-непрерывное молчание. Бедные Гебхарды, они, кажется, совсем в его руках. Карма графини [Вахтмайстер], которая настаивала на том, чтобы послать его в Эльберфельд. Итак — не падаем духом и продолжаем. Если в Обществе нас останется 10 человек, крепко сплоченных, — оно не сможет умереть, а с ним и моя «Тайная Доктрина». Остерегайтесь только Боваджи, ставшего в настоящее время совершенным безумцем. Ваша, у подножия кармического Везувия, непрерывно обдающего меня потоками извергаемой грязи, Е.П.Блаватская. Пожалуйста, ответьте на эти вопросы: 1) Могут ли они заставить меня поехать в Лондон? 2) Могут ли они вызвать меня в суд за предполагаемую клевету? И если да, то могут ли они заставить германское правительство выдать меня в случае моего отказа? И каков штраф, если таковой имеется? Посоветуйтесь, пожалуйста, с адвокатом, и я заплачу за это, если только это небольшая сумма.
Мой дорогой м-р Синнетт! Так как Вы почти единственный человек, которого я теперь считаю неспособным нарушить неприкосновенность частного письма пересылкой его врагу, — даже ради спасения собственной жизни — пишу Вам, чтобы сообщить две вещи. 1) Мохини отправил мое сугубо частное письмо мадам де Морсье; то, которое я написала ему на прошлой неделе с только что дошедшими до меня новостями о том, что Соловьев выступил в качестве свидетеля против меня в деле Мохини с [мисс] Л[еонард], — чтобы показать, что я всё время знала о его предполагаемом преступлении (потому что если это произошло, то это преступление) и старалась покрыть его, то есть сыграть гнусную роль, исполненную ханжества, притворства и елейного лицемерия. Мадам де М[орсье] тотчас показала его Соловьеву. Результат: грозное, уничтожающее, отвратительное письмо от Соловьева, в котором все громы и молнии, индивидуальные и коллективные из России, собраны вместе и брошены в меня. Я больше не буду писать Мохини — да и вообще с сегодняшнего дня никому другому. 2) Вам лучше отказаться от «Мемуаров» госпожи Блаватской. Если они выйдут сейчас — Вы восстановите против себя и меня всю Россию, моих родственников и общественность. Вас это не волнует, а меня волнует. Соловьев угрожает мне, тем более что господин Блаватский не покойник, а «очаровательный человек лет ста», который счел целесообразным скрыться на долгие годы в имении своего брата — со времени ложного сообщения о его смерти. Воображаю результат, если Вы опубликуете «Мемуары» и если он действительно жив, а я — никакая не вдова! Живописная картина, и Вы лишитесь своей репутации вместе со мной. Пожалуйста, отложите книгу на время — по крайней мере ее публикацию. Я всё еще не решила, как поступлю. Но я сделаю что-то, что хочу. Перескажите, пожалуйста, Мохини ту часть, которая касается его, но умолчите об остальном. Я вверяю это Вашей чести. Вы когда-нибудь представляли себе наивного, безобидного кабана, который просит только о том, чтобы его оставили спокойно жить в его лесу, который никогда не причинил вреда человеку и на которого спускают свору гончих, чтобы выгнать его из этого леса и разорвать на куски? В течение некоторого времени, конечно, пока он может и пока у него есть надежда спасти свой лес от осквернения и себя как его стража. Но когда к этим лающим, воющим, свирепым псам присоединяются животные, до этого времени дружественные кабану, и преследуют его, раздраженные его жизненной энергией, тогда кабан останавливается как вкопанный и смело встречает своих врагов, бывших друзей и всех остальных. И горе последним. Кабан неизбежно будет убит, подавленный количеством, но сотни собак будут выпотрошены и уничтожены в последней и решительной схватке. Это отражающая правду жизни аллегория. Понимайте ее, как хотите. Я узнала, что Ходжсон выступает в качестве свидетеля мисс Л[еонард] против Мохини в том смысле, что у него (Мохини) уже было еще одно подобное совращение и любовная история в Индии. Господин С[оловьев], вероятно, перевел мое восклицание, прочтя то первое письмо Мохини, так: «Второй раз подобная вещь (совращение челы) случается в Обществе», и, переводя свидетельство Ходжсона и сплетни о Мохини, — которые, по его словам, всем известны в Париже и Лондоне, — сделал из него вывод: «Шельма! Уже второй раз разыгрывает нас подобным образом. Нужно замять это дело с ним!» Ловко! Он грозит, что если я впутаю его имя в этот грязный скандал, то все мои дьяволы (в смысле Учителя) не спасут меня от полного краха. Он говорит о бароне Мейендорфе, о Блаватском и о репутации, созданной мне друзьями в России и других местах. Лес окружен, и кабан готов остановиться и встретить врага лицом к лицу. Е.П.Б[лаватская]. Два слова частным порядком. Герцогиня не такой уж и друг миссис К[ингсфорд] и М[ейтланда], как Вы думаете. Она открыла душу Олькотту и мне. Она скорее их жертва. Она заплатила за издание их «Совершенного пути», подарив им свои идеи, а они никогда даже не поблагодарили ее и не признали этого. Они неблагодарные. И теперь она наш, а не их друг. Но она, кажется, трепещет перед «божественной» Анной. Одно всё же странно. Она говорит мне, что, будучи вегетарианцами, они обе за столом пьют вино — кларет и изысканные ликеры — и Джеймс, дворецкий, даже подливает и сообщил герцогине за обедом в нашем присутствии, что миссис К[ингсфорд] «обожает шампанское»!!! Ну и зачем же она тогда разоблачает Вас перед К.Х. как пьянчугу? А теперь я хотела бы знать, делает ли миссис К[ингсфорд] из этого тайну или занимается этим (пьет вино) в открытую? Мне очень важно знать это. Олькотт Вам это скажет. До свидания, сердечный привет дорогой миссис Синнетт. Мне хотелось бы повидать вас, но — невозможно. Е.П.Б[лаватская]. P.S. Относительно «Мемуаров». Возможно, то, что Соловьев рассказывает обо мне и о старике Блаватском, «которого Вы (я) преждевременно похоронили», — его злобная выдумка в ожидании, что это сообщение потрясет меня, а возможно, и нет. Я никогда не получала официального извещения о его смерти, только то, что я узнала через свою тетушку в Нью-Йорке и опять же здесь. «Свое разоренное загородное поместье» он «сам покинул много лет назад», и пришло сообщение, что «он умер». Я никогда не обременяла свою голову мыслями о старике: он никогда ничего не значил для меня, даже как законный, хотя и ненавистный муж. И всё же если бы это оказалось правдой (его отец умер в возрасте 108 лет, а моя собственная бабушка примерно в 112) и мы всё это время говорили о нем как если бы он пребывал в Дэвакхане или Авичи, — то это не принесло бы конца неприятностям. Если Вы считаете, что «Мемуары» принесут пользу, то действуйте только на свою ответственность и под Вашим собственным именем, сообщая только то, что напечатано на русском языке. Не рассчитывайте ни на мою тетушку, ни на мою сестру. Они и слушать не захотят о дальнейших «осквернениях семейных тайн», как они их называют. Моя тетушка, возможно, и могла бы прислать 2-3 вещицы. Моя сестра сильно увлечена Соловьевым, который настроил ее против меня, и Общества, и бедного Мохини, и теперь она пишет мне письма в стиле мадам де Мэнтенон — исполненные фанатизма и столь же холодные и высокомерные, как лед на Монблане. Оставим ее в покое. Моя тетя говорит, что она отдала этот портрет и его у нее больше нет. Таким образом, я предоставляю издание «Мемуаров» Вам, но в самом деле считаю, что сейчас это опасно. Отложите публикацию на несколько месяцев. Не отказывайтесь от нее, а отсрочьте, так как чувствую, что последует немало оскорбительных писем в газеты с добавлениями к ним того-то и того-то — какие-нибудь грязные сплетни относительно моих предполагаемых троих детей и т.д., и что же я тогда смогу и должна буду сделать? Я в безвыходном положении. Во всем мире нет женщины, находящейся в более жалком положении, чем я. Я совершенно беспомощна. Наш оккультный друг, автор бессмертной чепухи о Киддле и поспешной записки от Учителя, который писал, когда его внутреннее «Я» пребывало в будущем, себе нынешнему, и она обнаружилась, не прошло и пять минут, у Шмихенов, — полагает, что Вы лучше оцените положение Боваджи с помощью его иллюстрации. В Торре-дель-Греко есть сапожник по имени Иисус, и это имя написано на его вывеске. И вот он говорит, что никто не может считать его «самозванцем» за то, что он называет себя Иисусом; но если бы он позволил людям поверить в то, что он Иисус Христос, и действовал бы таким образом, — то он и был бы таковым, если бы не вывел из заблуждения свою публику. Боваджи ведет или вел себя как если бы он был настоящим челой, и именно отсюда начинается обман. У посла, представлявшего своего монарха в средние века, были всяческие права, и его обязанностью было жениться в качестве уполномоченного его короля, и у него было право и обязанность сунуть свою правую ногу в постель новобрачной во время пышной церемонии и в присутствии избранного круга придворных. Но если этот посол шел дальше и делал ребенка королеве от имени своего хозяина, — то он мог оказаться в несколько более худшем положении, чем даже наш бедный Мохини. Шарма — большой друг графини и говорит, что счастлив называться таковым. Он беседует сколь угодно долго с ней наедине, а потом приходит иногда и разговаривает с нами обеими; так что мы с ней и слышим и видим его одновременно. Меня он мало интересует, а графиня, похоже, очень его любит — тем лучше для м-ра Шармы. Посылаю Вам письмо Олькотта и его предложения. Он, кажется, совершенно не волнуется по поводу минимальной вероятности появления «евразийца» как памятника визиту Мохини в Лондон. Оказывается, я только что была удостоена избранием главой Общества пожизненно. Очень мило с их стороны в Адьяре. Не сердится ли на меня миссис Синнетт, раз так внезапно прекратила писать? Обязательно сообщите. Копия в Лондоне или всё еще в Эльберфельде? Пожалуйста, сообщите мне и, очень прошу: «знайте, смейте и храните молчание». Е.П.Б[лаватская].
16 февраля 1886 г. Мой дорогой м-р Синнетт! Прочтите, пожалуйста, это внимательно, так как я решительно настроена расплатиться по счетам, какие у меня есть, и на те немногие оставшиеся дни жизни занять позицию, в целом не похожую на позицию больного и старого льва, лишенного помощи, за кем охотятся все Церберы, перед кем закрыты ворота всех стран и городов и которого может лягнуть любой осел. Моя карма — это мною заслуженная карма, и я не ропщу и не протестую против нее. Но за пределами кармы — и я это знаю, ибо мне объяснили разницу, — существует: а) долг и справедливость по отношению ко мне, как и к любому другому представителю человечества; и б) некое средство, которое должно быть предоставлено, чтобы я могла завершить или, вернее, продолжать работать, пока не завершу «Тайную Доктрину». Сейчас, в моем теперешнем состоянии, это совершенно невозможно. Графиня — свидетельница тому, что я говорю. Она ежедневно и ежечасно удивляется тому, как может женщина в моем истощенном и расстроенном состоянии здоровья выдерживать всё, что я делаю ежедневно и ежечасно, и не сойти с ума и не рухнуть замертво от разрыва сердца. Я могу вынести и вынесу всё, что является прямым следствием моих собственных ошибок или посева. Но намереваюсь восстать против того, что целиком и полностью является результатом человеческой трусости, эгоизма и несправедливости. Возможно, я сама навлекла на себя Куломбов, Ходжсонов, даже Селлинов, но я не сделала ничего такого, что стало бы причиной утраты моих лучших друзей и людей, наиболее преданных делу. Это случилось из-за происков тех, кому следовало бы если и не быть вполне готовыми отдать свою жизнь за Учителя и дело, как готова я, — то, по крайней мере, не увеличивать ряды постоянно забрасывающих меня камнями. Пожалуйста, задайте этот вопрос господам Боваджи и Мохини честно и открыто. Хотят ли они, чтобы я жила и закончила свою работу, или они намереваются, каждый в своих собственных эгоистичных целях, доконать меня? Ибо существует предел, когда даже такой защищенный человек, как я, должен уступить своей человеческой природе и покончить либо с собой, либо с теми, кто пытается его убить. Это покажется Вам смешным и нелепым. Возможно, Вы тоже уже пали жертвой тамильских мантр и психологии подобно всем Гебхардам — особенно Францу, подобно мисс А[рундейл] и теперь, как я понимаю, — Мохини? Я нисколько не удивилась бы, зная, что делаю. А теперь позвольте мне откровенно и немедленно заявить, что если Вы еще не достигли блаженного состояния марионетки в руках того, кто в высшей степени умело создает таковое, то Вы пребываете в огромной опасности впасть в него, хотя Вы никогда и не видели Боваджи и не разговаривали с ним, а просто в силу обстоятельств, которые это «милое» существо полно решимости создавать и которым Вы в конце концов уступите, потому что Вы, человек мира сего, судите по создаваемой видимости. Ну а я не намерена сидеть и дожидаться, пока потеряю Вас и миссис Синнетт, как потеряла Гебхардов, и Мохини теперь всецело в руках того, кому нечего больше терять и кто поэтому может особо не беспокоиться о том, каковы будут последствия для него самого. Прошу Вас не смеяться; умоляю, не думайте, что я пишу в пылу раздражения или в одном из свойственных мне приступов гнева и безудержных порывов, — ибо это не так. Я знаю, что говорю, и поэтому намерена действовать, исходя из этого. Три дня назад я получила письмо от Хюббе-Шляйдена, сообщившего мне ошеломляющую новость, что Селлин победил его, что он договорился с М.Гебхард о том, что он (Х[юббе]-Ш[ляйден]) вернет ей ее диплом и председательство, откроет «Sphinx» для поношения м-ром Селлином Общества, Олькотта, меня (в ходжсоновском стиле и еще хуже) и только в своем сердце останется истинным и преданным теософом, работающим для Общества тихо и незаметно, так как предоставив свои колонки врагу и отказавшись от всякой связи с Т[еософским] О[бществом], он помешает таким образом Селлину оскорблять и крушить Т[еософское] О[бщество] во всех немецких газетах. Короче говоря, он принесет в жертву себя и свой журнал, превратив последний в громоотвод. Теперь Вы можете спросить, какое отношение это имеет к Боваджи? Утверждаю, что большое. М.Гебхард замешана в этом, и ее заставили видеть вещи в этом свете. Если ее спросить, то М.Гебхард будет отрицать это совершенно искренне, она объяснит это другими причинами. Я настаиваю на том, что говорю. Но это ничего — не стоит об этом думать. Это всего лишь один из многих известных мне случаев. Позвольте мне перейти к последнему из них. Нет ничего искреннее, нежнее писем Мохини ко мне до того дня, как его «друг» Б[оваджи] (который ненавидит его теперь еще сильнее, чем Куломб когда-то ненавидел меня!) приехал в Лондон. Следствие № 1. Письмо от Мохини, самоуверенное, морализирующее, полное обвинений — каждое совершенно необоснованно и ложно, — которые он приводит в весьма величественном и снисходительном тоне. Возможно, Вы не усмотрите ничего, кроме обычных недоразумений, вызванных обстоятельствами и кармой. Я смотрю на вещи иначе. Каждое обвинение в нем, а именно: 1) что я разгласила некую тайну Мохини мадам Куломб, а та выболтала ее Ходжсону; 2) что я рассказала то же самое Дамодару, тогда как я сейчас написала ему (Мохини), что никогда и слова никому не сказала об этом; 3) что я сочла его виновным в <...> с мисс <...>, как только прочла ее письмо к нему в Вюрцбурге, а затем сообщила об этом Соловьеву, который рассказал это мадам де Морсье, а она, узнав таким образом, что я верю в виновность Мохини, тоже поверила в нее и, обнаружив потом, что я изменила точку зрения и заявила, что Мохини невиновен, решила, что я лгала и пыталась покрыть его, и, возмутившись (точно так же, как она, бедная женщина, могла бы возмутиться, если бы всё так и было), ополчилась на меня, Мохини и всех; 4) что я написала полковнику письмо, в котором представила всё в ложном свете, или сообщила ему о Мохини нечто ужасное, и т.д., и т.п. Вполне достаточно, чтобы теперь заняться анализом этих обвинений. Любое из них проходит через Боваджи и при его содействии. Обвинения и объяснения в отношении мадам де М[орсье] были распутаны при помощи М.Гебхард, которая отправилась в Париж и, как бы там ни было, ежедневно переписывается с мадам де М[орсье]. Я одна знаю, как велика роль м-ра Б[оваджи] в этом деле. Он рассказал всё это Мохини и тем самым настроил его против меня. Вы знаете, будучи в то время здесь, в Вюрцбурге, верила ли я в виновность Мохини; что я сказала Вам, то сказала и Соловьеву, считая его своим другом, каковым он и был тогда, — и ничего больше. Я была вне себя при мысли, что какая-то женщина осмеливается писать Мохини подобные письма, и ясно понимала, что он виновен не в половых сношениях, а в уступчивости обожанию, льстившему его тщеславию, в переписке с влюбленной в него женщиной. И Вы знаете, что если бы я и верила в глубине души в его виновность, то загородила бы его, челу, того, кто связан с Учителями, своим собственным телом не ради него самого, — ибо я всё сделала бы скрытно и тайно, чтобы избавить Общество от такого лицемерного чудовища, — но я скорее отрезала бы себе язык, чем сказала или призналась в этом кому бы то ни было. Это было бы губительно для Общества, меня самой и снова опорочило бы Учителей. Поэтому я никогда не говорила ничего подобного Соловьеву. Он совершенно определенно лгал. Он сплетничал, скорее из чистой любви к озорству, как сплетничал мне о Мохини, представляющем собой то да се, имевшем интрижку в Париже с такой-то и такой-то, о мисс А[рундейл], безумно влюбленной в Мохини; о самой мадам [де Морсье], которая в одном из своих припадков (гипнотического транса) заигрывала с ним — Соловьевым — и хотела изнасиловать его (sic! — так! — лат.). Он грязный, неразборчивый в средствах лжец и сплетник. Вначале он занимался этим без всякого злого умысла против меня, затем был уличен и вынужден повторить свою ложь в официальных документах, предъявленных Мельтцером, или — объявить себя лжецом. Он предпочел принести в жертву Мохини и меня — вот и всё; я понимаю это, а Мохини — нет, потому что он находится под сильным влиянием Б[оваджи]. Я никогда не говорила того, что он приписывает мне, ни Куломбу, ни Дамодару. Оба узнали от опозоренной Мохини участницы той любовной истории, которая произошла даже раньше, чем Мохини узнал о Теософском Обществе. Но так как Куломб подтвердит под присягой против меня всё что угодно и так как там нет Дамодара, чтобы возразить на это, — а следовательно, и на не вызывающие сомнений обвинения м-ра Боваджи против меня, которую он ненавидит, — надлежащим образом, то он ничего не утаивал от графини. Я никогда ничего не писала о Мохини Олькотту. Я избегала и откладывала это. И только когда дело приняло серьезный оборот, я рассказала ему об этом в общих чертах, прося его не верить всему, что ему скажут о бедном Мохини, который был безрассуден, но невиновен в преступлении, приписываемом ему. У Вас есть пересланное мною письмо полковника, в котором он сообщает мне: «Я знаю о Мохини всё» — к моему величайшему изумлению. Теперь мне известно, как он это узнал. Через миссис К[упер]-Оукли, которая пересказала в письме своему мужу наводнившие город толки и сплетни, исходящие от наших врагов. Отсюда и письмо полковника, на которое ссылается Мохини и о котором я ничего не знаю. Покажите, пожалуйста, Мохини письмо полковника. Думаю, что оно последнее, которое я Вам пошлю. Таковы факты. Оцените мое положение и постарайтесь понять, что я, приняв теософство совершенно серьезно, не могу поступить иным образом, чем собираюсь, даже в отношении женщины, которую я совершенно ни во что не ставлю. Я не верю ввиновность Мохини и никогда не верила в доведение до конца последнего преступного деяния. Но если он действительно писал письма мисс... [Леонард] «общим числом около 100» и «в самых необычных выражениях», я возьму назад слово «Потифар» и другие «клеветнические» выражения и напишу ей через ее адвокатов прилагаемое письмо[2], которое очень прошу исправить, а также предложить всё, что Вы сочтете уместным. Я не желаю таким образом обвинить Мохини, так как тем самым я бросила бы тень позора на Учителей, — даже если бы это и было правдой, во что я не верю, не могу поверить. Но я желаю, чтобы было точно известно, что я не одобряю даже писание таких писем и что если он дал ей определенные права, флиртуя с ней и болтая всякие глупости в манере, мало приличествующей челе, я, узнай я об этом вовремя, никогда бы не назвала ее «Потифар» в письменном виде, каким бы ни было мое личное мнение о ней. Я вполне сознаю, что угрозы адвоката смешны; но я знаю также, что хотя они и не могут добраться до меня здесь, у них есть сотня способов наделать много шума и смешать меня с грязью, до которых не додумается никто, кроме нещепетильных адвокатов; а с меня хватит и скандалов, и грязи. Кроме того, пока я не отмоюсь от всей этой истории, я даже не смогу поехать в Лондон, куда ехать мне совершенно необходимо, и не знаю, увижу ли Вас или нет. Итак, если Вы друг, то, пожалуйста, наймите хорошего адвоката (у меня есть несколько фунтов от тетушки, которые я могу потратить), чтобы он пошел к этим негодяям, хорошенько потолковал с ними и сказал, что если у них действительно есть «больше сотни» писем Мохини к ней и если они могут показать адвокату одно-единственное ласковое выражение, указывающее на любовную близость, — то мне этого достаточно. Так как я писала письма мадам де М[орсье] под впечатлением, что именно она его [мисс Леонард] преследовала, а не он отвечал или, казалось, отвечал и допускал, если не поощрял, ее любовь и так как Боваджи рассказал мне совсем другую историю, в которой представил Мохини жертвой не одной прелестницы — в подробностях, то если теперь мне докажут, что всё было не так и что это одно и то же, я готова признать свою ошибку публично. Она не Потифар, и он не Иосиф — в нравственном отношении (если он является таковым физически), за кого я его принимала. И теперь не пытайтесь отговорить меня от этого. Покажите это письмо Мохини, и пусть он хорошенько поразмыслит над ним и даже покажет его своему другу Б[оваджи], если хочет. Я решительно настроена расквитаться со всеми. Я испытала то, что никто во всем Обществе и, возможно, во всем мире не пожелал бы испытать, если бы мог помешать этому, и дальнейшие страдания теперь причинили бы вред не только мне, но и Обществу, делу, именам Учителей. Я знаю то, что не знаете, не можете знать Вы, ибо у Вас нет того личного опыта, что есть у меня. Я знаю, что не должна больше иметь дело с Боваджи Д.Н[атхом], который предоставил мне ехать в Эльберфельд, но что я должна бороться в одиночку и без посторонней помощи с силой, которая действует через него и которая, если мне не удастся ее победить, победит (погубит) всё Общество, Вас и всех через меня, хотя лично мне она не может нанести ущерба. До какой же степени слепым должен быть оккультист, если, конечно, он настоящий оккультист, чтобы не понять невозможность, абсолютную противоестественность того, что мальчик (или мужчина), столь беззаветно преданный делу, Учителям и мне, как я полагаю, — вдруг без малейшей провокации, причины или основания обнаружит такую ненависть, такую неистовую, свирепую, дьявольскую жажду мести и желание погубить ту, которая ничего, кроме добра, ему не сделала? Его полное искреннего раскаяния письмо ко мне, которое я переслала Вам, было притворством (или временным освобождением от овладевшей им силы). Как только оно было написано, он повел себя так же, только осторожнее. Он окончательно восстановил Гебхардов против меня, а Франца и его жену и против графини тоже. Он вмешивался во всё, заправлял всеми делами в Эльберфельде. Он был руководящим и злым гением этой семьи, и они это еще узнают, и он будет таковым для А[рундейл] и для любого, к кому он теперь приблизится. С тех пор он написал мне два в высшей степени дерзких, наглых письма не в его (Боваджи) стиле, а в том хитром, коварном, иезуитском стиле дугпа, с которым я так хорошо знакома. Это воскресший Мурад Али! Я рассказываю Вам всё и предупреждаю, чтобы Вы остерегались Мохини в первую очередь. Он любезно говорит еще об одной встрече со мной прежде, чем он вернется в Индию или отправится в Америку. Я не увижу его, потому что не смогла бы вынести этот ужас. И если он не изменится и эта сила не оставит его, я не позволю ему переступить порог. Как я могу сомневаться (даже если все вы настолько глупы, чтобы усомниться в этом), — если как только мы покинули Цейлон в том прошлом марте или апреле, я увидела хорошо известную фигуру (я уже видела ее рядом с ним в Дарджилинге, но тогда она не осмелилась к нему приблизиться) в десяти ярдах от нас четверых (Гартмана, Флинн, Боваджи и меня) — на палубе, грозившую мне кулаком и говорившую: «Сейчас вас четверо, скоро вас будет трое, затем двое — а потом ты останешься одна, одна, одна!» Пророчество оказалось вполне веселеньким. Мэри Флинн внезапно и без какой-либо причины или основания утратила свою преданность и не подает признаков жизни со времени отъезда, переменив свои взгляды. Затем Боваджи уехал в Эльберфельд и там с пеной у рта визжал перед графиней: «Она останется одна, я помешаю любому, Мохини и любому в Индии, прийти к ней. Я ненавижу, я ненавижу ее! Как бы мне хотелось обескровить ее сердце!» и т.д. Да, я осталась одна — в точности слова фигуры. Когда и графиня покинет меня через 3 недели или около того, я буду как в одиночном заключении в тюремной камере. Меня может парализовать, я могу умереть в любой день наедине с этим жалким дураком возле меня, который даже не смог бы известить никого из моих родственников и Вас об этом. Мои бумаги, бумаги Учителей — всё на милость кого бы то ни было. Вы можете посмеяться — над идеей фигуры. Мне не смешно, равно как и графине, которая читала его письмо к ней... «Страж Порога здесь, он подходит, подходит... Приди и спаси меня и т.д.» Мы знаем, что всё это значит, если даже Вам это и неизвестно. Итак, запомните: это не себя, а всех вас и Лондонскую ложу, и к тому же Т[еософское] О[бщество] вообще хочу я спасти. После того, что было сказано Ходжсоном, ничто в мире не может вызвать у меня дополнительного беспокойства. Но Лондонская ложа может развалиться, а теософия в Англии — погибнуть. Выбирайте между своей собственной житейской мудростью, любезным философским безразличием Мохини, слепотой мисс А[рундейл] — и моим 30-летним опытом. Прошлой ночью я снова видела фигуру, не в доме, так как в нем господствует влияние Учителя, — а по ту сторону сада сквозь стены, и графиня тоже видела и испытывала ее воздействие несколько раз, хотя здесь она не причинит ей вреда. И поскольку я видела ее и получила сегодня утром письмо и угрозу адвоката, то решилась. Если для спасения Общества и избавления его от этой силы — которая может подступиться в равной мере и к теософу и к челе, если тот не так предан и верен Учителям, как я, — я должна поехать в Лондон ближайшим поездом, подружиться с мисс Л[еонард] и объединиться ради общего дела с ней, каким-нибудь Ходжсоном и т.д., — я сделаю это без колебаний. Итак, запомните это, мой дорогой, преданный друг, единственный оставшийся таковым во всей Европе. Я обвиню себя, отдамся в руки тюремщика, миссионеров, приму предложения, сделанные иезуитами, — всё, что угодно. Я дошла до такой степени безразличия, до морального самоубийства личности, что готова на всё. Именно последнее письмо Мохини, показав мне ужасную опасность, которую все вы не замечаете, заставило меня решиться. Мой сердечный привет дорогой миссис Синнетт — воистину — ангельскому терпению! Ваша до достижения теософской пралайи, то есть вечно Е.П.Блаватская.
Сэр! Получив Ваше письмо 16-го числа текущего месяца, извещаю Вас, что, если сможете, покажите моему адвокату, который передаст Вам настоящий документ: 1) любое мое письмо — из тех, что я написала частным и конфиденциальным образом мадам де Морсье без малейшего представления о предании их гласности и о том, что они будут переданы ею Вам, — в котором я связываю имя Вашего клиента с каким-либо клеветническим эпитетом или сентенцией или в котором мною упоминается имя мисс... [Леонард]. 2) Если в «сотне писем» от м-ра Мохини к мисс... [Леонард], которыми Вы, по Вашему утверждению, располагаете, одна-единственная внушающая любовь фраза в ее адрес будет показана Вами джентльмену, который посетит Вас, фраза, достаточно ясная, чтобы привести к догадке и заключению, что он состоял или желал состоять в таких отношениях, которые каждым честным человеком обычно считаются предосудительными и постыдными между женатым мужчиной и незамужней девицей, — в таком случае я призн'аю, что была неверно информирована относительно истинных обстоятельств дела, и принесу мисс... [Леонард] исчерпывающие извинения за любое употребленное мною клеветническое выражение. Я до сих пор верю, что м-р Мохини не виновен. Пусть мне докажут, что он виновен, — и я с готовностью публично призн'аю свою ошибку. Е.П.Блаватская Адвокату. Пожалуйста, исправьте, переделайте и подумайте, как мне это написать.
Суббота, 13-е, 1886 г. Мой дорогой м-р Синнетт! Вот новое письмо, на этот раз с шантажом и запугиванием. Оно исходит, пройдя через Бибич, от Куломба, с которым Ваша очаровательная бывшая партнерша по вальсу поддерживает непосредственную связь. Что затевает эта подлая клика, я не знаю, но что имеет в виду Куломб, ясно вижу, ибо это старая, старая история. Но что бы там ни было, я полна решимости швырнуть его обратно в лицо Ремнанту. Я не думаю, что адвокат в Англии подлежит преследованию в судебном порядке за пасквиль и клевету в меньшей степени, чем любой другой смертный. Вот этот адрес: «Госпоже Митрович, иначе госпоже Блаватской». Оно представляет собой письменный пасквиль и обычное запугивание, как при шантаже, вымогательстве или как там это называется. Людям, не лишенным дара речи, нельзя помешать утверждать, что любой мужчина, который приближался ко мне, от Мейендорфа до Олькотта, был моим любовником (хотя это, я думаю, как раз равносильно тому, что любому из нас сказать, что... [мисс Леонард] — это Потифар или что она имела преступную связь с Мохини, не так ли?). Но я действительно считаю, что когда адвокат или адвокаты на основании дьявольской сплетни мадам Куломб пишут подобные оскорбления, намекая не только на проституцию, но и на двоемужие и вымышленные имена, — это клевета. Будьте добры, покажите это адвокату (нашему) и заставьте его прекратить это немедленно, заявив, что если он и Бибич не принесут письменные извинения, я буду преследовать их в судебном порядке и привлеку за пасквиль. Теперь у меня есть на это право, а если нет и если Вы не извлечете из этого пользу или не воспользуетесь этим, — то всё, что я имею сказать, так это то, что Вы заслуживаете, чтобы Вас запугала Бибич. Я Вам скажу, что если бы мы были в России или в любой другой цивилизованной или полуцивилизованной стране, — это письмо посчиталось бы пасквилем. Если в Англии это не так, то тогда чем дальше держаться от вашей «страны свободы и справедливости», тем лучше. А теперь послушайте историю. Агарди Митрович был моим самым верным и преданным другом с 1850 года. Я спасла его от виселицы в Австрии при помощи графа Киселева. Он был последователем Маццини, оскорбил Папу Римского, был изгнан из Рима. В 1863 году он приехал со своей женой в Тифлис. Мои родственники хорошо знали его, и когда его жена, тоже бывшая моей подругой, умерла, — он приехал в Одессу в 1870 году. Там моя тетя, неописуемо несчастная, как она мне рассказывала, от незнания того, что сталось со мной, упросила его заехать в Каир, так как у него были дела в Александрии, и попытаться привезти меня домой. Он так и сделал. А там несколько мальтийцев по приказу католических монахов готовились устроить ему ловушку и убить. Я была предупреждена Илларионом, бывшем в то время в Египте в телесном виде, — и заставила Агарди Митровича ехать прямо ко мне и ни под каким видом не покидать дом в течение десяти дней. Он был храбрым и отважным человеком и не мог этого вынести. Он отправился в Александрию вопреки всему, а я поехала за ним со своими обезьянами, поступая так, как велел мне Илларион, сказавший, что видит его смерть 19 апреля (я припоминаю). Вся эта таинственность и предосторожности заставили мадам Куломб навострить глаза и уши, и она начала болтать и надоедать мне, чтобы я сказала ей, правду ли говорят, будто я тайно вышла за него замуж. Причем, я полагаю, она не осмеливалась сказать, что, со всей возможной снисходительностью, его считали хуже, чем мужем. Я ее выгнала и сказала, что люди могут говорить и верить во всё, во что им угодно, но меня это не интересует. Это и есть зародыш всех последующих сплетен. Сейчас я не могу сказать, был ли он, бедняга, отравлен, как я всегда предполагала, или умер от брюшного тифа. Я знаю одно: когда я прибыла в Александрию, чтобы заставить его вернуться на пароход, на котором он приехал, я опоздала. Он ушел в Рамлех пешком, остановился по дороге, чтобы выпить стакан лимонада в гостинице, принадлежащей мальтийцу, которого видели разговаривающим с двумя монахами, а когда он добрался до Рамлеха, то упал без чувств. Госпожа Пашкова услышала об этом и телеграфировала мне. Я поехала в Рамлех и нашла его в маленькой гостинице с брюшным тифом, как сообщил мне врач, и с находящимся подле него монахом. Я вышвырнула того, зная его отвращение к священникам, устроила скандал и послала за полицией, чтобы вытурить грязного монаха, который показал мне кулак. После этого я ухаживала за ним в течение десять дней мучения, бесконечного и ужасного, когда он явно видел свою жену и громко звал ее. Я ни разу не оставила его, ибо знала, что он умирает; как сказал Илларион, так и случилось. В то время ни одна церковь не согласилась хоронить его, заявив, что он карбонарий. Я обращалась к некоторым франкмасонам, но и они боялись. Тогда я взяла абиссинца — ученика Иллариона, и вместе с гостиничным слугой мы вырыли ему могилу под деревом на берегу моря, а я наняла феллахов, чтобы перенести его вечером, и мы предали земле его бедное тело. Я была в то время российской подданной и поругалась из-за этого с консулом в Александрии (тот, что в Каире, всегда был моим другом). После этого я забрала мадам Себин, своих обезьян и вернулась в Одессу. Вот и всё. Консул заявил мне, что я не имела права дружить с революционерами и последователями Маццини и что ходят слухи, будто он был моим любовником. Я ответила, что так как он (А.Митрович) приехал из России с надлежащим образом оформленным паспортом, был дружен с моими родственниками и ничего не сделал против моей страны, то я имела право дружить с ним и с кем бы то ни было по собственному усмотрению. А что касается грязных слухов обо мне, то я к ним привыкла и могу только сожалеть, что моя репутация расходится с фактами, — приобрести репутацию, не получив при этом удовольствий (если это имело место), всегда было моим уделом. Это и есть то, за что ухватился теперь Куломб. В прошлом году Олькотт написал моей тетушке об этом несчастном, и она ответила, сообщив ему, что все они знали Митровича и его жену, которую он обожал, и он умер именно тогда, когда она (тетушка) попросила его поехать в Египет, и т.д. Но всё это ерунда. Что я хочу знать — так это имеет ли адвокат право оскорблять меня в письме, как поступил этот Ремнант, и есть или нет у меня право угрожать ему, по крайней мере судебным разбирательством? Пожалуйста, позаботьтесь об этом, прошу Вас как друга, в противном случае мне самой придется написать какому-нибудь адвокату и начать судебное дело, что я могу сделать и не приезжая в Англию. У меня, как Вам известно, нет желания самой начинать судебное дело, но я хочу, чтобы эти адвокаты знали, что у меня есть на это право, если я сочту это необходимым. Возможно, они как дураки и в самом деле верят, что я тайно вышла замуж за бедного Митровича и что это тайна, тщательно скрываемая от посторонних? Я напишу несколько слов, которые Ваш адвокат может показать Ремнантам, чтобы вывести их из заблуждения. В конечном счете я не поеду в Англию. Предпочитаю Остенде. Преданная Вам Е.П.Блаватская. Если Вы немедленно не прекратите это дело с «госпожой Митрович», то это всё станет известно теософскому Лондону и вызовет новый скандал. Заявляю Вам, что Вы должны сделать так не только ради меня, но и ради самого себя. Это прекрасная возможность, не упустите ее. Ремнанты истинно веруют в эту сплетню, иначе они никогда не осмелились бы написать такое. Объясните им хорошенько, что на этот раз они на коне, а потом праздновать победу будем мы. Только посмотрите! Я нашла конверт, не замеченный мною до сих пор. В Соединенных Штатах явные пасквили в открытых письмах или почтовых открытках вдвойне наказуемы. А как обстоят дела в Англии? Олькотт знал человека, приговоренного к 6 месяцам тюрьмы как раз за такое дело.
Мой дорогой м-р Синнетт! Есть письмо от Габорьо. Я на него ответила. Он может поступать как ему заблагорассудится. Если он способен на низость, то говорю ему — пусть так и поступает. Я не думаю, что он отдаст ей письмо, но лучше напишите ему любезное письмо и попросите вернуть то письмо Вам. А вот и новая наглая выходка адвокатов. Я высказала ниже то, что думаю. Пожалуйста, наймите для меня адвоката. У меня есть письмо от тетушки, в котором она сообщает то, что касается Соловьева, так как я просила ее припомнить все обстоятельства, не полагаясь на свою память: «Я ничего не знаю об этой истории с Мохини, да она меня и не интересует; всё, что я помню, так это то, что когда я нечаянно вскрыла это письмо и ты прочла его и сказала об этом мне и Соловьеву, вы с ним начали ссориться, и ты говорила, что никогда не поверишь в виновность Мохини и что это не его вина, если потифары бегали за ним. Если хочешь, я могу написать об этом письменные показания под присягой по-французски и присягнуть на Евангелии (Библии) перед нотариусом». Если Соловьев говорит нечто иное, он лжет. Да что он такое может сделать, чтобы угрожать мне? Пожалуй, только донести на меня жандармам в Тайной канцелярии и придумать несколько изменнических выражений, будто бы высказанных мною. Он вполне способен на это. Вся Россия его знает. Его собственная мать прокляла его, и говорят (но это слишком ужасно), что он был моим другом!!! Нет ничего удивительного, если после своего первого визита и хорошенько рассмотрев его, Учитель не стал больше иметь с ним никаких дел, несмотря на все мои мольбы! Вечно Ваша Е.П.Б[лаватская]. Покажите, пожалуйста, это Мохини. Я могу послать ему оригинал ее письма, но оно написано по-русски. Пусть поймет, что я не лгала.
3 марта Дорогой м-р Синнетт! Начался дождь — ожидай ливня. Не думаю, что возможно отвечать за что угодно, за любое незначительнейшее событие в этой жизни и говорить, что оно не будет иметь никаких последствий. Карма — это нечто большее, чем думает любой из вас. Сейчас персидский шах чихнет в какое-нибудь воскресенье, а в следующую субботу вся Европа будет охвачена большим пожаром, потому что некоторые из европейских держав, наверное, приняли чих за пушечный выстрел. Слишком чувственная старая дева влюбляется в волоокого мускатного индуса, и одним из следствий является то, что две семьи, тесно связанные ближайшими узами кровного родства, расходятся навсегда, а третья сторона, от начала до конца не виновная в ссоре, — я сама —побита в драке. Соловьев оказался грязным сплетником, вечно сующим нос не в свои дела типом и обидчиком. Он, чья репутация запятнана гораздо больше, чем у кого бы то ни было еще, сам предъявил обвинение (будто бы он более нравственный, чем Мохини), продал меня, как Иуда, без всякого повода или предупреждения, поехал в Петербург, сблизился с моей сестрой и ее семьей, восстановил их всех против меня, узнал всё, что смог, из давнишних грязных сплетен (особенно об этой истории с несчастным ребенком), вернулся в Париж, предал всех нас и т.д. Потом написал мне, как Вам известно, в высшей степени наглое, угрожающее письмо, грозя также и моей тетушке, которая, узнав, как он обманул нас всех со своей женой (оказавшейся теперь его незамужней золовкой, сестрой его второй жены, соблазненной им, как теперь оказывается, когда ей было всего 16 лет), написал моей сестре, что эта мнимая госпожа С[оловьева], которую Вы видели, — неподходящая компания для ее незамужних дочерей, а моя сестра показала ему, Соловьеву, письмо своей тетки. Шумная ссора — громы и молнии!! Я переслала тетушке его наглое письмо. Она отправила мое недовольное письмо сестре и упрекнула ее, кажется, слишком резко, за то, что та позволила своим дочерям, как Иудам, продать меня Соловьеву, водить дружбу и объединиться с ним против меня, не причинившей им никакого вреда и отказавшейся в их пользу от всего наследства моего отца без единого возражения, и т.д. Это довело мою сестру до истерики и припадков. Дочери написали в высшей степени дерзкое письмо моей тете, прося ее никогда больше не писать им и никогда не произносить моего имени, которое вызывает у них, как у христианок, отвращение. Две мои тетушки проявили строптивость, встали на мою защиту и написали грозные письма с упреками. Новые шумные ссоры, новые осложнения и т.д., и т.п. И вот результат: семейство моей сестры и мои тетушки превратились в Монтекки и Капулетти, а Соловьев — в Яго для теософии и меня. Моя сестра, по ее собственному признанию, ненавидит меня, а ее дочечки и того пуще. Сейчас в России, как и повсюду, ненависть является синонимом клеветы. Соловьев же, кроме того, не простит мне отказа от его предложений, которые Вам известны. Он знает Каткова, он писатель, и я полагаю, что из-за его «добрых» услуг потеряю свое место в «Российском вестнике» и, как следствие, несколько тысяч рублей в год. И все это потому, что Мохини решил поиграть в платонического (если, конечно, только платонического) Дон-Жуана. Ну и как Вам эта запутанность, мерзость и больное сердце? Оставим это. Теперь о другом. Мне наплевать на всех Ремнантов в Лондоне. Она ничего не может сделать, кроме как снова смешать нас с грязью, и, будучи не в состоянии вынести нам приговор по закону, они, конечно, просто продолжат корчить рожи нашим сестрам — если у нас таковые остались. Ну да оставим и это тоже. И вот, в то время как Вы забили себе голову идеей совместной жизни где-нибудь в деревне в Англии, — что теперь невозможно из-за Общества психических исследований и Бибичей — у меня были видения, о которых я рассказала графине дня три назад. Я увидела в высшей степени неожиданно Ваш дом с большим объявлением на окне: «Сдается дом с обстановкой» — и я увидела вас двоих и себя в Дьеппе или где-то еще, но мне кажется, что в Дьеппе. Если это не просто фантазия, видение, вызванное внушением, и вереница мыслей, — то тогда, возможно, в этом что-то есть. Если бы Вы только могли сдать дом с обстановкой — что, кажется, легче, чем передача в субаренду, — то мы могли бы жить очень недорого где-нибудь на побережье Франции; и Вы были бы всего в 2-3 часах пути от Лондона. Я всё это время думала переселиться куда-нибудь в те места — Булонь, Кале, Дьепп и т.д.; снять вместе с Луизой маленький домик, отправить туда свои домашние вещи и имущество и обосноваться там до тех пор, пока либо умру, либо вернусь в Индию, куда я не могу вернуться, пока не покончу с «Тайной Доктриной». Жизнь во Франции по ту сторону канала и полоски моря между Англией и французским побережьем похожа на жизнь в Англии и притом гораздо больше, чем во многих частях Англии. Ну и как, считаете ли Вы это осуществимым? То, что я трачу здесь, примерно 400 марок, я буду всегда тратить в любом месте, и не более того. Бутон совершенно неожиданно прислал мне 125 долларов, говорит, что теперь будет присылать больше. Делает прекрасные предложения. Прилагаю его письмо — прочтите его, пожалуйста, и пришлите обратно, сообщив, что Вы о нем думаете. Если Джадж, или Гебхард, или проф. Куэ помогут мне получить из Вашингтона авторское право на «Тайную Доктрину» и заключить новый контракт с Бутоном на «Изиду», чтобы он не мог меня больше надувать, я думаю, что смогла бы заработать на этом кое-какие деньги. А потом мы смогли бы жить вместе во Франции или где Вы только скажете, пока я не разделаюсь с «Тайной Доктриной». В местечках на побережье дома очень дешевы, если снимать их на год, они дороги только во время сезонов. В Арке, например, в получасе езды от Дьеппа, можно жить до смешного дешево. Он известен своим прекрасным Аркским лесом и очаровательными виллами, которых там множество. Графиня жила там и утверждает, что это восхитительное местечко. Если снять маленький домик заранее, сейчас или в течение апреля, то я смогла бы без труда прислать арендную плату за 3 месяца, так как наскребла кое-какую наличность, а потом смогла бы отправлять потихоньку и постепенно свое самое необходимое, например, кресло и некоторые другие вещи, а затем переехать туда в конце апреля или начале мая. Как бы это сделать? Как бы сделать, чтобы кто-нибудь поехал и посмотрел дома там или где-нибудь еще? Если я оплачу половину расходов за дом, житье и все такое, а Вы — другую половину, то выйдет очень дешево. А раз обосновавшись, даже если Вам пришлось бы поехать в Лондон будущей зимой, я в это время осталась бы одна и была бы все же близко от Вас. Я надеюсь получить еще немного денег в течение будущей зимы, то, что я получу из Адьяра, то, что должен мне Катков, и то, что я могу заработать сейчас, — всё вместе. Подумайте об этом серьезно. Если только сможете, сдайте свой дом с обстановкой, просто оставив массу громоздкой мебели и забрав с собой более мелкие хорошие вещи и безделушки; полагаю, мы могли бы устроиться отлично. Каждое утро нечто новое и новая обстановка. Я снова живу двумя жизнями. Учитель считает, что мне слишком тяжело сознательно высматривать в астральном свете мою «Тайную Доктрину», и поэтому вот уже примерно две недели меня заставляют видеть всё, что нужно, как бы во сне. Я вижу большие и длинные свитки бумаги, на которых всё написано, и вспоминаю их. Таким образом мне дано было увидеть всех патриархов от Адама до Ноя — параллельно с Риши[3]; и в середине между ними значение их символов, или персонификаций. Сет вместе с Бригху, символизирует 1-ю субрасу 3-й коренной расы, например, и означает с точки зрения антропологии 1-ю говорящую человеческую субрасу 3-й расы, а с точки зрения астрономии (его год 912) — в одно и то же время продолжительность солнечного года в этот период, длительность существования его расы и множество других вещей (слишком сложных, чтобы объяснять их Вам сейчас). И в заключение, Енох, подразумевающий тот солнечный год, когда установилась его теперешняя продолжительность в 365 дней («Бог взял его, когда ему было 365 лет»), и т.д. Это очень трудно для понимания, но я надеюсь растолковать это достаточно ясно. Я закончила огромную вступительную главу, или предисловие, пролог, называйте это как хотите, просто чтобы показать читателю, что текст, как он приводится, с каждым разделом, начинающимся со страницы перевода из «Книги Дзиан» и тайной книги Майтрейи Будды «Чампай чхос нга» (в прозе, а не 5 известных книг стихов, являющихся маскировкой), никакая не выдумка. Мне было велено поступить так, сделать беглый обзор того, что было известно исторически и в литературе, в классике и в мирской и священной истории — на протяжении тех 500 лет, что предшествовали христианскому периоду, и тех 500, что последовали за ним: о магии, о существовании Универсальной Тайной Доктрины, известной философам и посвященным всех стран и даже некоторым отцам Церкви, таким как Климент Александрийский, Ориген и другие, которые сами были посвященными. Описать к тому же мистерии и некоторые обряды; и смею Вас уверить, сейчас сообщаются самые необычайные вещи, вся история распятия на кресте и т.д., основанного, как доказывается, на обряде, древнем как мир, — распятии кандидата на испытаниях, схождении в ад и т.д. всех арийцев. Вся эта история в целом, до настоящего времени оставляемая востоковедами без внимания, обнаруживается даже в экзотерическом смысле в Пуранах и Брахманах, а затем объясняется и дополняется тем, что дают эзотерические толкования. Как не сумели востоковеды это заметить — выходит за пределы понимания. М-р Синнетт, дорогой, я располагаю данными на двадцать таких томов, как «[Разоблаченная] Изида»; это всё язык, умение, необходимое для их составления, которого мне недостает. Ну, Вы скоро увидите этот пролог, краткий обзор мистерий, которые появятся в тексте объемом 300 страниц формата 34,2х43,1 см. Непременно подумайте об Арке и Дьеппе серьезно. Я должна куда-нибудь уехать, но только не в Англию. Вечно Ваша Е.П.Б[лаватская].
[1] Мой дорогой м-р Синнетт... — Это сообщение, написанное рукой графини Вахтмайстер, было приложено к письму Е.П.Блаватской. [2] См. Письмо 77a. [3] Риши (санскр.) — древние ведические Мудрецы и Святые.
|
