


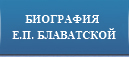
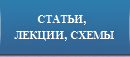
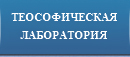

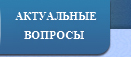
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Е.П.Блаватская Письма А.П.Синнетту
Письма 51-60
28 ноября 1885 г. Миссис и м-ру Синнетт! В дни моей юности — когда мне, имеющей доброе имя, как и всем другим женщинам, еще было что терять, — любую юную леди, я имею в виду незамужнюю женщину, за совсем несерьезный petit scandale d’amour [маленький амурный грешок — (фр.)], если бы даже она была преследуемой жертвой, а вовсе не Мессалиной или миссис Потифар, с улюлюканьем изгоняли из приличного общества и больше ее так нигде и не видели. Никто бы на ней не женился, ее не приняло бы у себя ни одно респектабельное семейство, ни одно собрание не стало бы терпеть ее присутствие до тех пор, пока не пришел день ее свадьбы — если бы, конечно, нашелся такой дурак. Ныне, видимо, всё иначе. Незамужние девицы, преследуя мужчин, проникают в их спальни, раздеваются донага перед тем, которого они поклялись соблазнить, — и всё это при полном свете дня, в лесу, и — из-за того, что тот мужчина не хочет на них жениться, они клянутся мстить; и при этом даже изумленных зрителей, не принимавших никакого участия в маленьких passe temps [развлечениях — (фр.)], повторяющих сцены в лупанариях[1] Рима и Помпеи, — и скорее именно их бросает в дрожь от подобной мести, но только не действующих и энергичных современных мессалин! Бывают в нашей жизни поступки, которые мы неспособны объяснить до самого смертного часа. Таковыми и были, во-первых, стимул, который пробудил м-ра Синнетта ввести в сцену транса в «Карме» римский персонаж; во-вторых, мысль по поводу чего-то содержащегося в одном из писем К.Х., что преследовало его в течение почти трех лет, и, наконец, в-третьих, то, что заставило его познакомиться и танцевать с перевоплощением стабианской гетеры, а затем ввести эту гетеру, раз как-то названную «девицей из тепидария»[2] — в несчастное и обреченное Теософское Общество. А теперь — полюбуйтесь на карму!! Леди и джентльмены из Лондонской ложи! Мы находимся прямо в осином гнезде, можете в этом не сомневаться. Вложенное письмо от мадам де Морсье — вероятно, знавшей во время 'оно мачеху, продавшую стабианскую красотку в тепидарий, — возможно, объяснит многое, а может быть, и ничего. Письмо это послано в ответ на мое, написанное ей по приказанию «полуоболочки». Видимо, м-р Синнетт тревожился не по поводу присутствия в теософском семействе такой «изящной безделушки», а просто боялся, что она могла бы еще больше опорочить Старую Леди (как будто это было возможно!), обвинив ее в распечатывании письма Мохини, адресованного, так или иначе, ему самому. Ну что ж, полагаю, что к этому времени Вы прочли копию этого письма, отправленного мной Эмили де Морсье и посланного для Мохини Д.Н[атхом]? Как только я узнала, что от м-ра Синнетта потребовали дать честное слово, что я не вскрывала ни одно из ее (Б.) писем, — я, кто в этом нежеланном воплощении зовется Е.П.Б., написала письмо, где просила Эмили сообщить стабианскому перевоплощению, что я прочла письмо, хотя никогда его не вскрывала. Но всё это никакой роли не играет, поскольку я могла его вскрыть и всё же не причинить никому никакого вреда, так как письмо это было адресовано Мохини, а между ним и мною невозможны никакие секреты, о чем он, может быть, сообщил Вам, а может быть, и нет. Чтобы облегчить душу, я на следующий день написала ей [мадам де Морсье] еще одно письмо и попросила ее сохранить это в тайне. Растолковала ей, что, собственно, она [мадам де Морсье] делает, как попала под влияние мадам Б., авичинских[3] сил (в ее случае безукоризненно естественных) и наклонностей, а следовательно, какими были те влияния, которые ее окружали. И закончила заверением, что если при такой весьма нервной натуре, с ее чувствительностью и т.д. она не изменит своего поведения, я уполномочена заявить (что я и сделала), что это может стать для нее причиной опасной болезни, а возможно — и чего-то похуже. В конверт я вложила ее ответ. В каждой строчке — результат деятельности кармы. Проглядывает повсюду! Но почерк уж так плох, что все те слова, что мне удалось разобрать, я постаралась сделать более понятными для чтения. Обратите, прошу Вас, внимание на предложения, помеченные синим. Да, она права. Если именно сейчас вспыхнет скандал, он будет в сотни раз хуже и ужаснее, чем куломбовские штучки. Эти касались только меня — персоны, уж слишком ничтожной. Будущий «незнакомец» родится не иначе как для того, чтобы подобно циклону смести с лица земли Лондонскую ложу, если вообще не Теософское Общество в Индии. Он унесет его, закрутив в урагане насмешек, а отнюдь не возмущения, в адрес бесстыдной весталки, которая могла бы быть его матерью, — о нет! насмешки — это для Мохини, а богохульный смех — для Учителей такого челы. В Индии, где они тревожатся о первом и обращают мало внимания на неудачи последних, — скандал не причинит никакого вреда, если не считать проявления, возможно, еще большего презрения индусов к европейским леди. В Лондоне же это стало бы концом ложи. Это в Англии тех, кто осмеливаются разоблачать порок и пытаются его остановить, подобно Стеду, судят и сажают в тюрьму. Б. станет героиней дня, а Мохини ошикают и прогонят. Поскольку, если ей, скажем, удалось убедить мадам де Морсье в своей невиновности и постыдном поведении и похотливости Мохини до такой степени, что де Морсье готовится сыграть роль Немезиды под угрозой смерти, «pourvu gue je fasse mon devoir» [лишь бы исполнить свой долг — (фр.)], то почему бы ей не убедить всё население Лондона в том, что ей известно то же самое? А некий голос мне в ухо нашептывает: «А ведь это, мне кажется, именно м-р Синнетт познакомил Б. с мадам де Морсье и свел вместе эти два пылких создания?» Карма, карма, мои добрые друзья! Мохини непорочен и чист, и в этом-то как раз и заключается причина, по которой он будет представлен виновным. Послушайтесь моего совета: пригласите его и как следует посовещайтесь. Юноше остается только одно — мера это крайняя и требует нравственной отваги или непререкаемой убедительности невиновного: пусть Мохини едет в Париж, дабы встретится с Б. лицом к лицу, и в присутствии мадам де Морсье вынудит ее, эту Потифар, сознаться в гнусной лжи и клевете. Подписываться не буду.
Дорогая «чета от Бога», только не говорите даже Мохини о двух моих частных письмах к миссис С[иннетт]. Это бесполезно и только испугает его. Всё зависит — я имею в виду будущий успех Лондонской ложи — от нашего неукоснительного молчания в отношении этого злосчастного дела, особенно последней из упомянутых, или третьей стороны[4]. Ибо в то время как в делах Б. и Х[оллоуэй] это чисто животная похоть, у последней из упомянутых это просто, если можно так выразиться, работа Стража Порога; это испытание, мучительно страшное и тем более жестокое, так как было последней вспышкой в ее жизни — «последней розой лета». Бедная, бедная милая девочка! Но она храбро выдержала его. Как было приказано, я написала ей длинное письмо, чтобы показать, что я знаю всё и уже в прошлом году знала многое относительно некоторых других вещей, только никогда не проронила ни слова никому в этом мире. Не уточняя деталей, я заставила ее понять правду и заверила в своем еще большем к ней теперь уважении — ибо ни один из тех, кто переступает Порог, не в состоянии удержаться от соблазна. Сейчас у нее больше шансов, чем когда-либо, как я ей объяснила. Но я опасаюсь, как бы тщеславие и женская гордость не оказались в ней сильнее преданности Обществу и делу. Она не будет обращать внимание на то, что я в курсе дела, но если бы она только заподозрила, что это знаете Вы, она отказалась бы от всего — и, вероятно, превратилась бы в злейшего врага. Мы не можем себе позволить потерять ее, особенно теперь, — это было бы смертью Общества. Сообщите мне, пожалуйста, есть ли у Вас экземпляр Комитета Защиты или мне нужно будет послать Вам тот единственный, что есть у меня, с замечаниями. Но, кроме замечаний к первым страницам памфлета Куломба, я не вижу, что могу сделать? Ведь это ложь от начала до конца. Ваша Е.П.Б[лаватская].
Четверг 6, Людвиг-штрассе, Вюрцбург Мой дорогой м-р Синнетт! Только что получила Ваше письмо. Вам следует считать, что это не моя личная защита, а защита дела, наших святых Махатм, превращенных панурговым стадом[5] м-ра Майерса в мыльные пузыри и плоды моего слишком распалившегося воображения. Будь у посторонней публики в мозгах хоть малая толика здравого, беспристрастного суждения — а это может совершиться лишь под воздействием таких теософов, как Вы, — так найдутся два или три факта, которые сразу же разгромят их. Один из них — это слова Ходжсона о том, что он не может простить меня за святотатственное девальвирование некоторых высочайших истин человеческой натуры во имя служения политическим интересам России!!! Наглый осел! Теперь Вы знаете, найдется ли в Индии хоть единственный нормальный человек, который, за исключением католических священнослужителей и Куломбов, мог бы обнаружить хоть крупицу правды в этом дурацком обвинении — я, которая в течение пяти лет продолжала твердить одну и ту же фразу перед каждым недовольным индусом: «Лучше всем вам, индусам и мусульманам, повесить себе камень на шею и утопиться, нежели бредовая идея перемен к лучшему, если бы русские и приобрели власть над вами, — вообще могла бы прийти вам в голову». Эта сентенция уже так давно была написана мною из Нью-Йорка находящемуся в Бомбее Харричанду Чинтамону, и его ответ видел Ходжсон, ибо Олькотт обнаружил несколько его ответов мне, и он мог догадаться о моем высказывании по ответу Чинтамона. «Если Россия в целом такова, как Вы говорите, то Боже упаси и сохрани нас от такого управления!» Ходжсон, я полагаю, видел его, и, следовательно, он лжет, когда по-прежнему упорно продолжает видеть во мне русскую шпионку или даже доброжелателя русского правительства. Но тогда уж это личное дело его самого и его совести, если она у него вообще есть. Майерс здорово напакостил на прошлой неделе в Париже и похвастался этим в своем письме к Соловьеву. «Видел Вашего друга Рише и некоторых других теософов и заставил их принять мои взгляды», — утверждает он. Это не Ледбитеру, а Исполнительному совету в Адьяре, Вам, дорогой м-р Синнетт, следовало бы написать о запрещении печатания в «Theosophist» всего имеющего отношение ко мне и моей защите. Они поступают так потому, что полковник Олькотт заставил их поверить (под влиянием почти истинно оккультного свойства) всему, то есть что Лондонская ложа сочла меня виновной, что все европейские теософы отказались и отвернулись от меня, что, короче говоря, я стала парией в ваших глазах — тогда как европейским теософам было сказано, что именно индусы потеряли доверие ко мне. Если бы можно было разоблачить двойную ложь, если бы только Вы могли написать в Исполнительный совет официальное письмо, опровергающее это заявление, тогда Вы оказали бы услугу делу, а заодно и мне. Да, есть множество вещей, которые нам придется обсудить, прежде всего пожелание Махатмы, чтобы филиалы Теософского Общества, особенно Лондонская ложа и Европейский филиал, все были автономны под началом одного президента. Необходимо быстро и эффективно положить конец лагерю президента в Пуне, лагерю президента в Лахоре, особым организациям и всем подобным штучкам. Ах, ну что ж, кто любит дело — должен жертвовать собой, а я всегда готова. До свидания. Ваша вечно виноватая Е.П.Блаватская.
Суббота Мой дорогой м-р Синнетт! Я только что прочла доводы Мохини против какого бы то ни было серьезного обстоятельного ответа Обществу психических исследований. Я думаю, он прав. Так как не в человеческих силах доказать мне, что я написала письма Куломба, и никакое отрицание никогда не докажет им, что я их не писала, — всё остальное стало бесполезным. Новый трюк Ходжсона с некоторыми диаграммами, вычерченными Куломбом, восхитителен! Конечно, кое-что происходило, и у м-ра Уимбриджа тоже, а Олькотт пытался и потерпел неудачу. У меня есть несколько диаграмм, имеющих отношение к семеричным шарам и космогонии эзотерического буддизма, изготовленных для меня Джуал Кулом и Шармой, чтобы давать объяснения Вам и Хьюму во время первого года обучения в Симле. Некоторые из них я скопировала у парса, неплохого рисовальщика из школы ремесел в Бомбее, однако не сумевшего сделать их хорошо. И тогда я скопировала их с диаграмм Джуала Кула с тибетскими знаками и названиями, переведя их и сделав всё, что только могла, — так как мне не хотелось отдавать подлинники постороннему человеку, а Вы не смогли бы их понять. Я передала их Олькотту для снятия копий, а один из них — думаю, тот, что послала Хьюму, — был скопирован Куломбом, отличным рисовальщиком, — к сожалению, слишком хорошо. Я помню, как здорово он скопировал несколько написанных по-английски строчек, сделанное Джуалом Кулом примечание к космогонии, — так, что я была поражена: это была точная копия почерка Джуала Кула, его грамматических ошибок и всего такого прочего. Ни Олькотт, ни я, ни Дамодар никогда не делали тайны из этих копий. Олькотт чуть не потерял голову от колец и кругов и заставлял Куломба целыми днями продолжать это занятие, и таким образом этот негодяй, сохранив подобные кусочки и обрывки, может здорово одурачивать олухов из Общества психических исследований, заставляя их верить, что именно он развил целую теорию из своей французской башки. Великолепно! Хотелось бы мне добраться до моих бумаг в Адьяре, чтобы найти некоторые подлинники Джуал Кула, тогда Вы бы поняли, что это то же самое, только с тибетскими названиями. Но я не сделаю ничего подобного, чтобы оказать услугу Обществу психических исследований. В этом деле я больше и пальцем не шевельну. Если с точки зрения точной науки, строгих экспертов и суждений дурацкого мира я мошенница — пусть так. Я начинаю скорее гордиться подобными качествами, чем наоборот. Прошу Вас как друга абсолютно ни в чем не потворствовать более Обществу психических исследований, не позволять им прикасаться их грубыми лапами ни к одному клочку бумаги, исходящему от Махатмы К.Х. или моего Учителя, — ничего, ничего. Если Вы не сделаете этого, я никогда не смогу Вам больше ничего сообщить, а я готовилась продолжить занятия под руководством Учителя. Бедный, бедный Падшах — с ним покончено! Это для него испытание! Что дальше? Ведь если это Их проверка, то она действительно заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание! В конце концов посланная Вам Махатмой К.Х. диаграмма не может быть оригинальной копией Куломба с моей, сделанной по образцу Джуала Кула, хотя я знаю, что посылала Хьюму одну из таких копий. Или я очень сильно ошибаюсь? Ваша должна быть (и если я увижу ее, то смогу сказать это наверняка) осаждением, сделанным с беловика, принесенного Олькоттом снизу, ибо эта сцена у меня сейчас перед глазами. Никто, кроме меня, не мог разобраться в некоторых диаграммах, присланных Джуалом Кулом; тогда Махатма К.Х. сказал: «Вы снимете копию и переведете термины». Я это сделала. Затем я отдала ее Олькотту для передачи в школу ремесел, а после этого я ничего не помню, всё в тумане. А потом, через день или два, у меня были две такие диаграммы, сделанные Олькоттом и Куломбом вместе, и он (Олькотт) принес их мне, и, следовательно, они были осаждены не в моей комнате или Бомбее, а унесены и принесены вечером обратно. Я описываю все эти детали, чтобы Вы не отвергали любые подобные обвинения. Просто скажите, что Вы знаете, как она была сделана, не опускаясь до объяснений, чтобы доставить им удовольствие обнаружения ошибки в Ваших показаниях и расхождений в «15-40 секунд». Только напишите подробное письмо Падшаху. Скажите ему, что он губит все свои надежды на будущее — свою молодую жизнь навсегда, не выстояв и не справившись со своим послушническим испытанием. Он вдавался в ненужные подробности, а теперь окончательно теряет почву под ногами. Я в самом деле чувствую такую жалость к этому несчастному милому мальчику. Он такой честный, такой искренний! А теперь, дорогой м-р Синнетт, мое последнее решение. Мне больше не придется иметь дело ни с чем исходящим из Общества психических исследований. Я не унижусь ни до каких объяснений, кроме как Вам и немногим друзьям. Даже при помощи Учителей мне осталось не так уж долго жить, а работа, за которую я ответственна, огромна. Я должна спасти «Theosophist», написать и закончить «Тайную Доктрину». Какую пользу принесу я делу и любому из вас, верящих в меня, убедив ценой сверхчеловеческих усилий дюжину-другую людей и приобретая не питающих ко мне доверия профанов, которые всегда найдутся. Куломбы и миссионеры поклялись уничтожить Общество; им не удалось сделать это, погубив меня, — так почему же я должна ради спасения своей репутации у «избранных» помочь себе уничтожить Общество, лишив его «Тайной Доктрины», а его членов того, чему я могу их научить? А мне придется заниматься именно этим, если буду тратить свое время на грязную ложь, интриги и то и дело возникающие новые осложнения. Пусть те, кто верят в меня, сохраняют спокойствие, оказывают пассивное и выражающееся в форме отрицания сопротивление врагу и ничего более. Остальные, если мы не будем обращать на них никакого внимания, скоро вконец выдохнутся, ибо для ссоры нужны двое. Пишите просто в этом духе и велите им на Вашем культурном, спокойном и чистом английском убираться к их дедушке — Сатане. Я говорила Вам, что стала бесчувственной, так что не обращайте на меня внимания. Если Вы верите, если несколько дюжин посвященных учеников верят в Учителей и в то, что я всего лишь Их скромный фактотум[6], — а вся Индия верит в это, — то какое это имеет значение? Если ничто не может удалить из их умов мнение эксперта о том, что письма подлинные, — не обращайте на них внимания. Вчера вечером Учитель сказал только: «Показывая им, что Вы тверды как скала, выказывая презрение или даже безразличие к их мнениям, продолжая заниматься своей работой и обязанностями еще усерднее, чем раньше, — Вы поразите и заставите их замолчать вернее, чем всем, что можете сказать и сделать, дабы вывести из заблуждения их умы. Цикл еще не завершен — карма не исчерпана». И я непременно поступлю таким образом. Отправляю Вам обратно гнусный памфлет, объясняя только первые несколько страниц. Я не буду больше держать его в доме: он жжет мне руки, вызывает у меня тошноту и наполняет дом духом этой дьяволицы. Я не желаю иметь к этому никакого отношения. Мохини был прав, я — ошибалась. У него есть интуиция, а у меня нет. Дорогой м-р Синнетт, Вы можете сделать их посмешищем — так сделайте это. Но не касайтесь оккультных дел, полагая, что сможете объяснить их на физическом или даже психическом плане, — если это из спиритуалистической сферы. Выбросьте их из головы. Что же касается м-ра Ходжсона, то он однажды, возможно, еще напишет своей собственной рукой следующие фразы, ныне настолько точно осажденные мною, насколько я могу вступить с ним в связь. «В Индии я был дураком — на Западе стал ослом. Истинна одна лишь теософия, а Общество психических исследований — старая обезьяна»[7]. Ну, это первая попытка. Но клянусь, будь у меня наклонности дугпы, я смогла бы подделать с помощью осаждения письмо, которое, после признания его экспертами написанным его собственной рукой, привело бы его на виселицу. А я испортила его, черкнув по нему карандашом. Вначале я питала к нему некоторое уважение за их искренность, правдивость и честность; теперь я не испытываю ничего, кроме презрения к их глупой злобе и самомнению. До свидания, мой единственный друг в Англии — «единственный», ибо в Вас есть те качества, которых нет более ни у кого. Я еще сумею быть благодарной[8]. С сердечнейшим приветом вам обоим от — Д.Н[атха][9].
Понедельник Мой дорогой м-р Синнетт! Я протестую и совершенно категорически отказываюсь от всяких таких штучек, как пожертвования по подписке или денежные средства, собранные в мою пользу, причем для этого существует несколько оснований, и Вы, убеждена в этом, должны их правильно понять. 1) Я не хочу продавать за вознаграждение никакие оккультные труды, и менее всего «Тайную Доктрину». 2) Я не могу брать на себя обязательства или связывать себя. Как только я возьму за работу деньги, это сразу же поставит условие, что она должна быть сделана хорошо и удовлетворить жертвователей (я имею в виду фонд или пособие). Предположим, что она их не устроит. Тогда ко всем моим преступлениям прибавится еще и непорядочность в денежных делах. 3) Я не могу связывать себя обещанием работать только над «Тайной Доктриной» или вообще работать над ней, пока ее не закончу. Я могу заболеть, я могу захандрить, я могу умереть, а раз уж меня наняли, то я буду чувствовать себя вором, доведись мне отказаться от работы в силу любой из вышеупомянутых причин. В конце концов, не только же британцы никогда не будут рабами. Как истинная дочь своего отца, я против библейского порядка и — отказываюсь с благодарностью. Помимо всего этого, если новое клеветническое обвинение Ходжсона, если его низкая ложь не будет разоблачена и опровергнута публично (я имею в виду «шпионскую» деятельность, а это мелодия совсем из другой оперы), то я никогда не опубликую «Тайную Доктрину». Я говорила Вам также о том, что хочу и обязательно сделаю, — покину Европу и Индию. <...>
Мой дорогой м-р Синнетт! Вчера я послала письмо миссис Синнетт, предназначенное также и Вам, — это многое объяснит. Я умоляю опровергнуть новое обвинение — в том, что я была «невольной причиной нежелания Д.Н[атха]» встретиться с Вами. Одно время у меня самой было такое впечатление, что мое замечание — случайное и никогда больше не повторенное — о том, что если он будет вести себя перед Вами, размахивая руками на манер неаполитанца и как ветряная мельница, то Вы будете чрезвычайно шокированы, — имело некоторое отношение к его странной неохоте, но с тех пор я рассталась с этой мыслью. Легкость, с которой все эти леди и джентльмены (включая чела) находят выход из затруднения в случаях, когда они не желают, им запрещено или они просто не в состоянии что-либо объяснить, — затыкая все дыры моей крайне неблаговидно используемой персоной, просто восхитительна. И в данном случае это может быть доказано двумя путями. Когда я высказала вышеупомянутое замечание, на горизонте еще не было ни мисс Арундейл, ни Мохини, чтобы заставить Бабаджи забыть обо всем. Мое замечание произвело на него такое слабое впечатление, что не приди эти двое вообще, он спокойно остановился бы в Вюрцбурге и встретился с Вами. Но Вам нужно было представить какое-то разъяснение, и членам Лондонской ложи следовало его предложить — причем еще до возникновения его странного нежелания, — а чего проще заткнуть дыру, через которую утекала правда, использовав меня в качестве затычки? Я повторяю: мое замечание составило, ну может быть, 5%; другое замечание в Париже, о котором я узнала через кого-то и которое он признал, еще 5% — всего 10%, а 90% этой тайны по-прежнему в его руках; и если Мохини, возможно, подозревает, то мисс А[рундейл], с другой стороны, не имеет ни малейшего представления об этом. Я покажу Дарбхаджири мое письмо — пусть решает и скажет, так это или не так. Да, у меня было столько посетителей, приходилось говорить так много, я так устала и совершенно выдохлась, что вот результат — доктор, который потребовался вчера в 11 часов вечера. Такое сильное сердцебиение и спазмы в сердце, что я подумала — это конец! Теперь мне приказано держать язык за зубами, следовательно, у меня будет больше времени держать свое перо — и никакого дрянного каламбура! Я постараюсь написать примечания, но меня тошнит от одного прикосновения к памфлету женщины. Сердечный привет всем — миссис Синнетт, олицетворяющей одно целое с Вами, и Дэнни. Сегодня я ухитрилась послать Вам 20 франков, или 1 фунт. 10 франков из того, что я задолжала Вам с Тедеско, а остальное — за нужные мне вещи или, скорее, за одну — «Пять лет теософии», нечто предложенное миссис Л[орой] К[артер] Х[оллоуэй] на благо Общества, сочиненное ею и Мохини, опубликованное ею и защищенное ее авторским правом, и теперь если Обществу оно потребуется, то Общество может либо тщетно домогаться, либо сделать, как я, — заплатить за это, то есть заплатить за то, что было взято целиком из моего собственного журнала и составлено из ряда моих собственных статей! Восхитительно! Пришлите мне, пожалуйста, экземпляр этого сочинения. Мохини не пришлет — забывая всё, что я прошу его сделать. Получила, само собой разумеется, 3 фунта 16 шиллингов, но к тому же еще неожиданно получила 40 фунтов из Адьяра за два месяца и еще 20 фунтов за третий месяц. Так что теперь мы в расчете. Я не в претензии на них, кроме как в отношении будущего и в том, что касается «Theosophist». Мне не хочется, чтобы мое имя выставлялось напоказ, я бы предпочла, чтобы это было имя Субба Роу, если уж вообще нужно какое-то имя. Но если я увижу на обложке имя Оукли, заменившее мое, я подниму шум, и здоровенный, — можете не сомневаться. Хюббе-Шляйден здесь; остался на неделю дольше, к великому неудовольствию Гартмана, и сказал ему об этом только тогда, когда тот должен был спешить на поезд. Он милый человек, добрый, тонкий, славный со всех точек зрения, и морально и умом. Он шлет поклон. Ваша Е.П.Б[лаватская].
1 января 1886 г. Мой дорогой м-р Синнетт! Вчера вечером, когда мы ужинали с чаем, появился проф. Селлин со знаменитым и долгожданным «Отчетом Общества психических исследований» под мышкой. Я читала его, принимая всё это в целом как мой кармический новогодний подарок или, пожалуй, как последний удар 1885 года — самого восхитительного года в короткой жизни Теософского Общества. Ну что ж, я не обнаружила решительно ничего нового в отношении моей скромной персоны. Многое касается Вас и остальных. Более чем когда-либо я узнала руку, которая руководит всем делом: ту руку, которая, крепко ухватив ученых членов Кембриджа за носы, указывает им дорогу — куда? Будь вы американцами, немцами, итальянцами, русскими, — только не теми, кто вы есть, замкнутыми, высокомерными, боящимися Общества англичанами, — так, уж конечно, привели бы м-ра Ходжсона, опытного сыщика и агента индийских падре, прямо в суд на Боу-стрит, а затем и дальше — до места. Только, пожалуйста, не вообразите ни на мгновение, что я подъезжаю с чем-то вроде сомнения в каждом из вас или во всех вас, защищающих меня. Прекрасные дни Араньеса миновали. Я старый, выжатый физически и морально лимон, годный лишь для чистки при его помощи когтей дьявола и, пожалуй, для того, чтобы его заставляли писать по 12-13 часов в день «Тайную Доктрину» под диктовку, чтобы ему приписали после издания (если издадут) авторство и идеи, где будут замечены мой литературный стиль и галлицизмы. То, что меня в нем «публично и печатно» называют раз 25 фальсификатором, ловкачом, мошенницей и т.д. и в придачу русской шпионкой, — всё это старая история. Но в нем присутствуют и совсем новые черты. Позвольте мне их перечислить. Бабула в этом объемистом отчете ну просто герой. 1) Все письма моего Учителя были написаны им — Бабулой, мальчиком, не знающим ни единой английской буквы. 2) Меня обвиняют в том, что в течение 5 лет я взывала к чувствам индусов, чтобы подстрекать их и развить в них сильную ненависть к вам, англичанам. Это закрывает дверь в Индию. 3) М-р Хьюм верит в существование Махатмы К.Х. (как мило), но считает Его Адептом «с ограниченными возможностями». 4) После пятилетнего перерыва наш Джут-Синг выяснил у своих мусульманских служащих, что в пакет из резиденции губернатора провинции (в котором было письмо Махатмы) совалась я, благодаря всё тому же драгоценному Бабуле. 5) Миссис Сиджвик преуспела, трудясь над настроченным письмом, как Пенелопа, следовательно, я должна была сделать то же самое с письмом Смита (однако это дурацкие измышления). 6) Мохини, Боваджи, Бхавани Роу, Дамодар и т.д., и т.п. — все лжецы и сообщники. 7) Извините меня, но похоже, что Вы тоже полусообщник, если не законченный. Что скажете о 60 изменениях, внесенных Вами в письма Махатмы К.Х., после того как Вы утверждали, что не изменили ни единого слова? Не собирается ли Он обвинить и Вас? По всей видимости, так. Есть масса феноменов, которые нельзя объяснить. Часть из наиболее важных произошли в Вашем доме, когда меня там не было. Они были чрезвычайно неуклюжими, и пока Вашу надежность нельзя было подвергнуть сомнению, Майерс, Ходжсон и К° не могли одержать великую победу. Было совершенно необходимо выставить Вас не заслуживающим доверия. Вы влипли, и они за Вас ухватились. Они бы не смогли, откажись Вы наотрез позволить им заполучить письма Махатмы. Ваша карма, дорогой друг. А теперь не хотите ли принять раз в жизни совет дурака? Не произносите ни слова в мою защиту, ссылаясь на феномены. Постарайтесь стать французом. <...> Сразите их насмешкой и расскажите им <...> имеете столь остроумно истолкованные <...> действительно «искусный фальсификатор», «русская шпионка», они делают из меня преступницу перед англо-индийским правительством, они губят меня до конца моих дней, морально и материально, и губят Общество; они обливают грязью Вас, Олькотта, любого, кто не выступает против меня, — и неужели ни один из вас и пальцем не шевельнет не в мое оправдание — вам никогда не удастся смыть всю грязь, которой я покрыта в глазах тех, кто не знает меня, — но в свое собственное оправдание, в защиту целой группы джентльменов и леди, если не дела? <...>
ТЕОСОФАМ И ПРОСТО БЛАГОРОДНЫМ ЛЮДЯМ Долгое время грозивший появиться отчет Ходжсона — представителя, посланного Обществом психических исследований в Индию в 1884 году для изучения определенных феноменов, по заявлению Куломбов, производившихся ими мошенническим путем по наущению нижеподписавшейся, которая была прямо и косвенно связана с подобными оккультными феноменами, — вышел. Нижеподписавшаяся вполне официально отвергает обвинения, выдвинутые против нее в вышеупомянутом отчете, в дополнение к которым — потенциальным измышлениям от начала до конца — ее в нем не раз называют «фальсификатором» и «русской шпионкой». В этом объемистом отчете нет ни одного обвинения, которое могло бы выдержать судебное расследование и быть признанным правильным. Всё в нем представляет собой личные умозаключения, гипотезы и необоснованные предположения и выводы. Каждая сентенция в нем является произвольной и в высшей степени клеветнической, а согласно закону — грубой и порочащей, в глазах любого беспристрастного свидетеля, осведомленного относительно обстоятельств, предшествовавших исследованию и приведших к появлению отчета. Лишь немногие из тех феноменов, о которых Куломбы были полностью осведомлены, — приведены в нем в искаженном виде, чтобы соответствовать теории обмана. Две трети проведенных теософами феноменов, наиболее важных, равно как и самых необъяснимых, спокойно опущены. Однако, если их придется в ближайшее время представить широкой публике в качестве контрдоказательства, свидетелей этого забросают грязью заранее, и будет сделана попытка представить их не заслуживающими доверия. Вышеупомянутый Ходжсон явился в Индию как друг; он был принят как человек, состоявший в теснейших дружеских отношениях с теми, кого он теперь обвиняет в преступном сговоре и лживости. В то время когда он жил в Адьяре, почитаемый всеми как совершенно благородный человек, ни у кого не было ни малейшего представления о том, что многое из сказанного им в частных беседах, каждое незначащее слово, которое никто в то время и не думал взвешивать, впоследствии будет предано гласности, получит иной смысл, и что его слова будут использованы против Общества. Ему были предоставлены все возможности для исследования — от него ничего не утаивалось, так как все чувствовали и осознавали себя совершенно не заслуживающими выдвинутых абсурдных обвинений. А теперь всем этим злоупотребляют и представляют публике в неблагоприятном свете. Принимая во внимание всё это и 1) то, что вышеупомянутый Ходжсон и тот, кто, возможно, санкционировал его граничащую с неприличием деятельность и заставлял или помогал ему, не обнародовал в своем отчете ничего, кроме показаний недоброжелательно настроенных свидетелей — злейших врагов на долгие годы; сплетен и древней лжи, измышленных Куломбами, и его собственных, личных умозаключений и состряпанных теорий; и что, с другой стороны, он нечестно замалчивал любое малейшее свидетельство в мою пользу, а в тех случаях, когда он не мог избавиться от такого свидетельства, неизменно старался представить моих свидетелей и защитников либо как простофиль, либо как моих сообщников. 2) То, что помимо писем Куломбов, полное авторство в отношении которых я отрицаю, как отрицала в день их появления, ни одно из коих мне не разрешили увидеть в подлиннике; то, что, помимо всего этого, ряд частных писем и отрывков из них, взятых в отдельности и, следовательно, допускающих возможность любого истолкования, опубликованы, причем подобное издание дает основания для преследования по закону. 3) То, что узкая полоска страницы послания была украдена мадам Куломб, по ее собственному признанию, с моего письменного стола несколько лет назад; явный перевод какого-то куска из русской ежедневной газеты, ряд статей из которой я переводила для «Pioneer» по просьбе м-ра Синнетта в 1881-2-3 годах. То, что, опять же, этот отдельный фрагмент (явно не моего сочинения, что доказывают благополучно оставленные в конце его кавычки) воспроизведен с очевидным намерением бросить на меня гнусное подозрение в том, что я «русская шпионка». 4) То, что вышеупомянутый Ходжсон и его хозяева знают, в каком положении я нахожусь (будучи неоднократно уведомленными о причинах, в силу которых я не могла преследовать Куломбов в судебном порядке, о причинах, известных также каждому теософу, признать которые я не стыжусь); и что зная это — то есть то, что я совершенно беспомощна и беззащитна в Англии и Индии как ненавистная русская и ненавистный теософ, — они не колеблясь воспользовались своим положением, чтобы оскорблять с полнейшей безнаказанностью женщину, клеймя ее как шпионку и фальсификатора. 5) Учитывая также, что если я не смогу доказать реальность вызываемых феноменов ни в каком суде, то Ходжсон и К° смогут доказать их нереальность не иначе как на основании косвенных улик и своих собственных преждевременно составленных представлений; но что, с другой стороны, обвинение меня в том, что я вообще являюсь шпионкой, легко могло быть представлено безосновательным, ложным и клеветническим; они по-прежнему подтверждают свои злонамеренные заявления — просто потому, что могут поступать подобным образом совершенно безнаказанно и что это их устраивает в данный момент, когда вся Англия восстает против и не доверяет России — так как ничто не может до такой степени погубить меня в общественном мнении; более того, это особое обвинение, единственное могущее оказаться якорем спасения для их отчета, должно было быть выдвинуто как повод для следующих одна за другой фальшивок и обмана, скрывающих десять лет постоянного труда, бедности, борьбы ценой здоровья и последних денег, которые у нас были. Принимая во внимание всё это и еще очень многое, к какому же заключению может прийти честный человек, который, ознакомившись с действительными обстоятельствами, прочтет их отчет? Несомненно, к следующему: несмотря на всю ловкость м-ра Ходжсона, обвинения не могли бы оставаться в силе, если нельзя было бы найти разумного мотива того отвратительного постыдного поведения, в котором меня обвиняют. Публичное и открытое объяснение истинного мотива показало ложность всех подобных обвинений и вконец подорвало, если не разбило полностью, грязные обвинения. Почему не представить эти обвинения в свете, наиболее подходящем для их принятия общественностью вообще без единого слова протеста? Это можно было бы осуществить безнаказанно, и это только губит меня, обрекая на жизнь в одиночестве, и захлопывает передо мной двери на мою родину, где я думала спокойно умереть, зная, что выполнила свой долг так хорошо, как только смогла. Какое значение для достопочтенных профессоров в Кембридже имеет то, что теперь у старой русской женщины есть только один доступный ей путь: умереть опальной нищенкой вдали от всех, кого она любит и к кому она стремится в этой жизни, пока они могут тешить свою злобу и наказывать тех, кто отказался признать в м-ре Ходжсоне непогрешимого эксперта, а в них самих — непогрешимых руководителей в делах психических и феноменальных? Итак, они, вероятно, сделали всё это: ну и пусть их торжествуют в своем беззаконии. Это поступок, который каждый честный мужчина или женщина должен и непременно посчитает просто постыдным. Итак, учитывая, в конечном счете, что если этот отчет представляет собой якобы выражение великой цельности натуры писателя, его ошибочных, но искренних и честных взглядов (которые я ныне не признаю), что, возможно, он был опубликован полностью, чтобы подчеркнуть его (автора) исключительную проницательность и притом ничего не потерять в силе дедукции и выводов, если бы даже прямое обвинение в подлоге и занятии шпионажем (выражения «фальсификатор» и «шпионка») было отброшено; но что это не было сделано в силу приведенных выше причин, а клеветнические и обвиняющие выражения там опубликованы, чтобы весь мир узнал и поверил, — учитывая всё это, я, нижеподписавшаяся, призываю теперь всех любящих истину и справедливость англичан и англичанок в Соединенном Королевстве Великобритании, — чьи справедливые законы предписывают считать невиновным даже преступника, пока он не будет признан по этому закону «виновным», — объяснить, почему же мне не следует объявлять вышеупомянутого Ходжсона и его хозяев публично и в печати виновными в низком, трусливом, подлом и отвратительном поступке, до которого ни один джентльмен, ни один честный человек, не отличающийся даже особым благородством, никогда бы не опустился ввиду существующих обстоятельств. С учетом всего вышеизложенного я умоляю Лондонскую ложу Теософского Общества разрешить нижеподписавшейся, придав настоящему письму грамматически более правильную и документальную форму, напечатать и обнародовать его, разослав всем теософам во всем мире, а также опубликовать его в «Theosophist». И пока я не вырвалась совсем из Теософского Общества и связана с ним, пока любой мой поступок может, вызвав ответную реакцию, причинить вред делу или какому-либо из Обществ, я не предприму никаких действий, не одобренных всеми Советами. Но если мне будет в этом отказано и придется до конца жизни проходить с тройным клеймом мошенницы, фальсификатора и шпионки подобно Каину женского рода, беззащитной и бессильной даже доказать, что последнее обвинение — низкая, ничем не оправданная ложь и клевета, то мне только и останется, что избрать иной путь, возврат с которого невозможен. Е.П.Блаватская
9 января [1886] Вернулась графиня, и среди привезенных ею новостей есть одна, объясняющая, с чем связаны обвинения Ходжсона. Например, немецкие теософы не могут понять или объяснить феномен с японскими вазами, полученными Олькоттом. «Как могут Махатмы (возвышенные существа) дойти до того, чтобы преподнести Олькотту вазы, купленные заранее в магазине, доставив ему их из магазина», и т.д., и т.п. Это — гипотеза, а ниже — факты. Полковник Олькотт только что вернулся домой из какой-то поездки. Он поднялся наверх в мою «оккультную» комнату, где я также обычно и пишу. Мы разговаривали, и он осматривал новый стенной шкаф для книг с ведущей в него зеркальной дверцей в стене перед моим письменным столом, тогда как рака находилась на стене справа от стола. Она была просто вделана в стену, и сзади нее в стене не могло быть никаких люков и отверстий, так как эта стена выходит на лестничный пролет. В задней части стенного шкафа одна гладкая доска. Кому захотелось увидеть феномен и что было сказано, я не помню. Только Олькотт, осмотрев несколько книг в шкафу, получил письмо от Махатмы и собирался уходить, когда я поняла, что в шкафу еще что-то происходит. Поэтому я сказала: «Постойте, давайте посмотрим, что это такое». Мадам Куломб была в комнате. Тогда он открыл дверцу стенного шкафа и обнаружил в нем 2 вазы с цветами. Он так и затрясся над ними. Увидев вазы, я в этот момент сказала или подумала, что они весьма похожи на те, которые я только что купила для гостиной. Именно мадам Куломб купила их в одну из своих поездок в город за мебелью и провизией. Но эти вазы были гораздо больше, а мои стояли там, где и были, в соседней комнате на угловом столике. В то время мне показалось, что мадам Куломб выглядит очень смущенной. Теперь я знаю почему. Она купила мне две вазы, и теперь обнаружится, что они отмечены в записях в торговой книге там, где они были куплены. По-моему, она купила еще и эти две дополнительные вазы, намереваясь послать их в качестве подарка одному из своих бомбейских друзей, так как она занималась торговлей с миссис Дадли, покупая вещи в Мадрасе и посылая их м-ру Д.Дадли, который продавал их капитанам дальнего плавания и на пароходах и делил прибыль с мадам К[уломб]. Эти две вазы (Олькотта), очевидно, находились в комнатах мадам К[уломб] в другом доме и были принесены из потайного места, где хранились. Иначе зачем бы она стала скрывать от меня, что купила четыре, а не две вазы только для меня, как я думала? Как бы то ни было, вот что я должна сказать относительно феномена с вазами. 1) Дело тут не в вазах. Предполагается, что каждая появляющаяся вещь, доставка которой осуществляется по воле Адепта или посредством медиумизма и духов, уже предсуществовала как объект. Такие вещи, как большие вазы, которые можно покупать дюжинами и о которых известно, что они продаются во многих магазинах, — не подлежат материализации. Вообще чтобы доставить объект феноменальным путем, тот, кто хочет проделать это, покупает его или выбирает в доме другого человека, а затем заставляет пройти либо сквозь закрытые двери, либо сквозь закрытую крышку, либо что-нибудь в этом роде. 2) Следовательно, в основе «феномена с вазами» лежит факт их переноса из любого места, где бы они ни находились, в закрытый стенной шкаф, который Олькотт собственноручно запер и перед которым он стоял, ожидая, что же произойдет дальше. Если стена позади шкафа оставалась сплошной — это был феномен. Если в ней был какой-то люк или отверстие, некое хитроумное приспособление, которое позволяло бы просунуть предмет снаружи, — то это было мошенничество, совершённое кем угодно. Тогда встает вопрос: была в то время в шкафу ложная или двойная задняя стенка или ее не было? Я утверждаю, что не было. Я полагаю, месье Куломб изготовил ее позже для своих особых целей. Это достаточно подтверждается в памфлете д-ра Гартмана. Итак, это сделали не Махатмы. В течение десяти лет полковник Олькотт постоянно наблюдал достаточно феноменов и вполне убедился и без феноменов, что кому-то пришлось взять на себя труд по покупке ваз и подготовке этих фокусов для него. Это было сделано челой и в силу определенной причины, которую мне нет нужды объяснять. Я сообщила Ходжсону, что у меня были две вазы (которые исчезли, так же как и вазы полковника Олькотта), а также всё, о чем пишу здесь. Пусть спросят м-ра и миссис Синнетт, как их ребенку в Симле принесли куклу или игрушку. Если бы м-р Ходжсон зашел в один магазин игрушек в Симле, он бы узнал из записей в торговых книгах, что кукла такого вида была куплена и оплачена молодым человеком в тот же самый вечер. И, без сомнения, он бы поместил этот фокус в свой отчет в качестве свидетельства против меня. А м-р Синнетт мог бы ответить, что этот факт тоже стал ему известен в тот же самый вечер, потому что я объяснила им на месте, как это было сделано. Без сомнения, охотники за феноменами предпочли бы, чтобы игрушка и вазы исчезли из магазина без того, чтобы за них заплатили или чтобы всякая бессмысленная доставка материализовалась, как Вселенная, — из ничего? Даже Куломбы твердо это знали. Они достаточно прожили у нас и слышали о феноменальных доставках, чтобы понять, что этот феномен связан с появлением предметов за закрытыми дверями и в тайниках, следовательно, очень легко показать человеку науки, что это фокус, потому что вазы были куплены в конкретном магазине и отмечены в торговых книгах! И ученый м-р Ходжсон заглотил новое доказательство и опубликовал его. В заключение: Ходжсону был предъявлен предмет нательного белья (попросту говоря, женская сорочка) с пятнами от металла на лицевой стороне. Доби (прачка) может подтвердить, и Бабула, и, возможно, мисс Арундейл, и я могу показать свои старые сорочки, покрытые такими пятнами и разъеденные ржавчиной до дыр. В Индии, где я носила не платья с карманами, а легкие муслиновые халаты, я обычно пришпиливала ключи спереди между сорочкой и юбкой. Мадам Куломб, занимавшаяся моим бельем, много раз говорила мне, что я порчу одежду этой своей привычкой. Но я продолжала, и теперь она показывает м-ру Ходжсону «предмет нательного белья» с такими пятнами и втолковывает ему, что причиной появления пятен была металлическая музыкальная шкатулка, издававшая при нажатии на нее локтем «астральный звон». И м-р Ходжсон, ученый эксперт, принял на веру и обнародовал и это!! Аминь! Е.П.Блаватская P.S. Я познакомилась с Субба Роу в тот день, когда впервые приехала в Мадрас в мае 1882 года. Виделась с ним в течение недели, а потом, до тех пор пока мы не переехали жить из Бомбея в Мадрас в январе 1883 года, обменялись с ним несколькими письмами. Как я могла писать «Изиду» при его помощи, когда я была в Нью-Йорке, он в Мадрасе, и мы были совершенно незнакомы друг с другом?
Мой дорогой м-р Синнетт! Постараюсь сделать всё возможное, чтобы оживить изложение событий в «Мемуарах», потому что я это обещала и намереваюсь исполнить свое обещание, как бы неприятно это ни было лично для меня. Я не разочарую Вас, ибо собираюсь порыться в закоулках прошлого в моей памяти и сделать оккультные воспоминания интересными, по крайней мере их русским характером, — поскольку сейчас они ничуть не интересны, как твердят мне и графиня, и Гартман. Конечно, в том виде как они сейчас написаны — эти несчастные «Мемуары» действительно напоминают костюм Арлекина, сшитый из разных лоскутков. Это не Ваша вина, ибо Вы сделали всё возможное при данных обстоятельствах. И всё же в целом, как удачно выразился Илларион, они действительно оставляют впечатление робкой испуганной нищенки, решившей потолкаться в изысканном обществе среди леди и джентльменов и надевающей на себя снаружи все свои трогательно-жалкие украшения, пытаясь скрыть с их помощью свою внутреннюю незащищенность. «Взгляните на меня, господа, — у меня, да, у меня тоже есть интересные вещицы, чтобы похвастаться и показать их вам. Только не заглядывайте под них, умоляю». Вот истинное впечатление, которое они оставляют. Нечто несвязное, незаконченное, хаотичное и даже не романтическое. Ложь — блестящий, полный жизни вымысел имел бы больший успех, чем подобные отрывочные сведения и эпизоды из такой долгой, печальной, полной событиями и вечно сопровождаемой клеветой жизни, как моя. Теперь Вы работаете в мыслью, что только такие «Мемуары», описывающие жизнь госпожи Б[лаватской], могли бы в настоящий момент вызвать реакцию — жгучего интереса, если не поддержки и полного оправдания. Осмелюсь сказать, что ничто подобное не может и не сделает этого. Единственная вещь во всем мире могла бы это сделать, если я когда-нибудь соглашусь на нее; и эта вещь — правда и ничего, кроме правды, — вся правда. Это действительно заставило бы всю Европу подскочить на месте и вызвало бы революцию. Но Вы же знаете, я в самом деле оккультист, настоящий, а не прикидывающийся. Я оккультист по сути, кем бы я там ни выглядела в глазах даже «внутреннего круга» — Восточной группы. Я не собираюсь расплачиваться той же монетой, какую получила, однако многое во мне, возможно, отличается от их — так как последнее ложно, а мое истинно. Я смотрю на всех этих людей, ныне лающих и исходящих ядом вокруг меня, как бесплотный дух может взирать на собак, кидающихся с лаем на его тень. Я израсходовала весь запас страдания, отпущенный мне моей земной природой, и горючего больше нет. Я буду прилагать все усилия и продолжать бороться, пока жива; а потом в один прекрасный день ощутится роковой укол в сердце, а через 5-6 минут после этого, если не раньше, я стану «очаровательным трупом». Это — программа. А до тех пор — ну что ж, пусть всё идет своим чередом. А посему, раз в Вашем последнем письме ко мне содержится очень серьезное предложение, требующее этого длинного ответа, я должна сообщить Вам свое решение в последний раз и в то же самое время изложить его мотивы, так как питаю к Вам слишком глубокое уважение и привязанность, чтобы позволить Вам трудиться, ошибочно полагая, что «это еще одна причуда Старой Леди». Нет и нет; и необходимо убедить Вас в этом и заставить это понять. Отсюда — это предварение и просьба простить за необходимость этого длинного послания. Я недостаточно хорошо знаю английский, чтобы быть краткой. Вы говорите: «Таким образом, мы должны, например, привести инцидент с Митровичем целиком». А я говорю: не должны. Эти «Мемуары» не принесут мне оправдания. Это я знаю так же верно, как знала то, что «The Times» не обратит внимания на мое письмо против отчета Ходжсона. Они не смогут сделать этого, не только «если они будут написаны достаточно полно», но даже если выйдут в шести томах и в десять раз интереснее, — они никогда не реабилитируют меня просто потому, что «Митрович» — это один из множества инцидентов, которые враг обрушивает на мою голову. Если я затрону этот «инцидент» и полностью оправдаю себя, Соловьев или какой-нибудь другой мерзавец вытащит на свет божий Мейендорфа и «инцидент с тремя детьми». И если бы мне пришлось опубликовать его письма (находящиеся в собственности Олькотта), адресованные его «дорогой Натали», в которых он рассуждает о ее черных как вороново крыло волосах, «длинных, как прекрасная королевская мантия», — как высказывается де Мюссе о волосах своей маркизы д’Амеди, — то я бы просто нанесла оскорбление мертвому страдальцу и вызвала бы к жизни подходящую тень кого-нибудь еще из длинной галереи моих воображаемых любовников. Ну почему я должна говорить о Митровиче? Допустим, что я рассказала всю правду о нем? Ну и что? Итак, в 1850 году я знавала этого человека, о чье по внешнему виду мертвое тело я споткнулась в Пера, в Константинополе, возвращаясь однажды ночью домой, в отель Миссире, из Баугакдиры. Он получил три сильных удара в спину от одного, двух или более мальтийских головорезов и корсиканца, которым заплатили за это иезуиты. Я подобрала его, простояв над его еще дышащим телом около четырех часов, прежде чем мой проводник смог разыскать попрошаек, чтобы поднять его. Тем временем лишь турецкий полицейский рискнул подойти, попросив бакшиш и предложив скатить мнимый труп в ближайшую канаву, проявивший затем явный интерес к моим собственным кольцам и бросившийся наутек, лишь только увидев мой направленный на него револьвер. Вспомните, что это было в 1850 году и в Турции. Потом мне удалось доставить этого человека через дорогу в греческую гостиницу, где его опознали и окружили заботой, достаточной, чтобы вернуть к жизни. На следующий день он попросил меня написать его жене и Софи Крувелли (большому другу герцогини, теперь виконтессе де Вижьер в Ницце и Париже и его тогдашней любовнице; нет, это уже сплетни). Я написала его жене и не стала писать Крувелли. Первая приехала из Смирны, где находилась в то время, и мы подружились. После этого я на несколько лет потеряла их из виду и снова встретила его во Флоренции, где он пел в Перголе вместе со своей женой. Он был карбонарием, революционером худшего толка, фанатичным мятежником, венгром из Митровица, города, название которого он взял в качестве псевдонима. Он был, как я полагаю, побочным сыном герцога Лукки, который его воспитал. Он ненавидел священников, участвовал во всех восстаниях и избежал австрийской виселицы только потому... — ну вот уж об этом-то мне, конечно, не следует говорить. Потом я снова встретила его в Тифлисе в 1861 году и снова с женой, которая, как я знаю, умерла после моего отъезда в 1865 году; в то время мои родственники хорошо его знали, и он был дружен с моими кузенами Витте. Затем, когда я увезла бедное дитя в Болонью, думая, что могла бы его спасти, я снова встретила его в Италии, и он делал для меня всё что мог, больше даже, чем брат. Потом ребенок умер, и так как у него не было ни бумаг, ни документов и мне не хотелось превращать свое имя в пищу для «доброжелательных» сплетников, именно он, Митрович, взял на себя все хлопоты: он похоронил ребенка аристократического барона — под своим, Митровича, именем, сказав, что «ему всё равно», в маленьком городке южной России в 1867 году. После этого, не известив родственников о своем возвращении в Россию с несчастным маленьким мальчиком, которого мне не удалось привезти обратно живым гувернантке, выбранной для него бароном, я просто написала отцу ребенка, чтобы уведомить его об этом приятном для него событии, и вернулась в Италию с тем же самым паспортом. Затем наступает черед Венеции, Флоренции, Ментаны. Только Гарибальди (сыновья) должны знать всю правду и с ними еще несколько гарибальдийцев. Вы знаете отчасти, чем я занималась, Вы не знаете всего. Мои родственники знают, а моя сестра — нет и, к большому счастью, не знает Соловьев. А теперь, стоит ли мне в иллюзорной надежде оправдать себя начинать с вытаскивания на свет Божий этих нескольких трупов: матери ребенка, Митровича, его жены, самог'о бедного ребенка и всех остальных? Никогда. Это было бы столь же низко и кощунственно, сколь бесполезно. Пусть же мертвые спят. Вокруг нас достаточно мстящих призраков — и последний из них Вальтер Гебхард. Не трогайте их, ибо Вы только заставите их разделить оплеухи и оскорбления, получаемые мною, но Вам ни в какой степени не удастся защитить меня. Я не хочу лгать, и мне не разрешается говорить правду. Что же нам делать, что же мы можем сделать? Вся моя жизнь, за исключением недель и месяцев, проведенных мною с Учителями в Египте или Тибете, столь невероятно наполнена событиями, к тайнам и подлинным обстоятельствам которых имеют отношение мертвые и живые. Я единственная оказалась ответственной за то, в каком виде они предстанут миру, а чтобы оправдать себя, мне пришлось бы наступить на большое количество мертвых и облить грязью живых. Я этого не сделаю. Ибо, во-первых, это не принесет мне никакой пользы за исключением того, что добавит к тем эпитетам, которых я удостоена, еще и ярлык хулителя посмертной репутации, и, возможно, обвинение в шантаже и вымогательстве; и во-вторых, как я уже говорила Вам, я — оккультист. Вы говорите о моих «способностях к восприятию» в отношении моих родственников, а я утверждаю, что это оккультизм, а не восприимчивость. Я знаю, какое воздействие это оказало бы на мертвых, и хочу забыть живых. Это мое последнее и окончательное решение: я не хочу их трогать. А теперь о другой стороне дела. Мне часто напоминают о том, что как общественный деятель, я, женщина, вместо того, чтобы выполнять свои чисто женские функции, исполнять супружеские обязанности со своим мужем, рожать детей, вытирать их носы, заботиться о своей кухне и находить утешение с помощниками по супружеству тайком и за спиной у мужа, избрала путь, который привел меня к дурной славе и известности, и что, следовательно, я должна была ожидать всего того, что выпало на мою долю. Отлично, я признаю это и соглашаюсь. Но в то же самое время я заявляю миру: «Леди и джентльмены, я в ваших руках, подвластная и подчиненная мировому суду присяжных, только с тех пор, как я создала Теософское Общество». Над Е.П.Блаватской с 1831 до 1875 года опущена завеса, и вас ни в коей мере не касается то, что происходило до того, как я выступила в роли общественного деятеля. Это была моя частная жизнь, священная и неприкосновенная для всех, кроме клевещущих и злобных бешеных псов, которые под покровом ночи суют свои носы в частную жизнь каждой семьи и каждого человека. Этим гиенам, которые разроют ночью любую могилу, чтобы добраться до трупов и сожрать их, я не обязана давать никаких объяснений. Если обстоятельства не дают мне убить их, мне приходится страдать, но никто не может ожидать, чтобы я встала на Трафальгарской площади и начала поверять свои тайны всем снующим мимо городским хулиганам и извозчикам. И даже они пользуются б'ольшим моим уважением и доверием, чем ваша читающая и литературно образованная публика, чем леди и джентльмены из ваших гостиных и парламента. Я скорее доверюсь честному полупьяному извозчику, чем первым. Я мало жила в обществе, даже в своей собственной стране, но знаю его — особенно на протяжении последнего десятилетия — лучше, чем, возможно, знаете вы, хотя в течение последних двадцати пяти лет жизни и вращаетесь в этой образованной и утонченной толпе. Итак, будучи униженной, оклеветанной, опороченной и облитой грязью, я заявляю, что было бы ниже моего достоинства сдаться на их милость и суждение. Да если бы я даже представляла собой всё то, в чем меня обвиняют, будь у меня без счета любовников и детей, ну кто из всей этой компании чист достаточно, чтобы открыто и публично бросить в меня первый камень? Некая уличенная Бибич в одной компании с сотнями других, которые не подверглись подобному разоблачению, но — ничем не лучше ее. Высшие круги общества, от великих герцогинь и принцесс крови до их камеристок, — все источены тайной похотливостью, распущенностью и проституцией. Если Вы найдете из десяти женщин, замужних и незамужних, одну безупречную — я готова объявить современное общество относительно безгрешным, хотя все женщины, за очень небольшим исключением, лгут и себе, и другим. Все мужчины в своей низменной натуре ничем не лучше животных и скотов. И это именно их, такую вот компанию, я собираюсь просить быть мне судьями, безмолвно обращаться фактически к ним, описывая определенные события моей жизни в «Мемуарах», чтобы они «соизволили оправдать меня за недостаточностью улик». «Глубокоуважаемые леди и джентльмены, вы, которые никогда не упускали случая согрешить за закрытыми дверями, вы все, развращенные объятиями мужей других женщин и жен других мужчин, вы все без исключения, не лишенные удовольствия хранить одну-две семейные тайны, — пожалуйста, примите мое оправдание». Нет, сэр, я скорее умру, чем пойду на это! Как верно заметил Гартман, то, что я думаю о себе, гораздо важнее того, что думает весь свет. Именно то, что я знаю о себе, будет в дальнейшем моим судией, а вовсе не то, что читатель, покупающий за несколько шиллингов мою жизнь, «выдуманную жизнь», как он будет всегда считать, — подумает обо мне. Если бы я имела дочерей, чью репутацию я могла бы подорвать, не сумев оправдать свое поведение, возможно, я пошла бы на такое унижение. А так как у меня нет ни одной и через три дня после моей смерти весь мир, за исключением немногих теософов и друзей, забудет мое имя, — то я скажу, пусть все идет своим чередом. Мораль вышесказанного и заключение: Вы можете ошеломить публику описанием моей жизни день за днем аж с момента основания Теософского Общества, и публика имеет на это право. Осмелюсь сказать, Вы могли бы принести в сто раз больше пользы, обнажив ее перед читателями, а не посвящая их в жизнь некой русской, одной из тысяч, к которой они не имеют никакого отношения (во всяком случае, я к ним отношения не имею). К тому же у Вас есть 14 или 15 альбомов с вырезками, которых вполне достаточно, чтобы снабдить Вас материалом для 100 томов «Истории Теософского Общества и его членов, их несчастий и триумфов, их взлетов и падений». Это был бы законнорожденный труд, каждое слово которого можно было бы подтвердить, и врагу трудно стало бы это отрицать. «Мемуары» как раз достигли этого момента (в имеющейся у меня корректуре). Методично разоблачайте неслыханные гонения, заговоры, даже сделанные ошибки — и это станет нашим оправданием. «Мы ненавидим и преследуем лишь то, чего боимся». Вы, возможно, обессмертите Движение, если возьметесь его описать. Оставьте первую часть в том виде, как она есть, с многочисленными дополнениями, которые я сделала и сделаю. Не спешите с публикацией и дайте мне время встретиться с Вами лично в Остенде. Поверьте мне, так будет лучше. Напишите Олькотту и попросите его переписать для Вас некоторые касающиеся меня части письма к нему князя Эмиля Виттгенштейна и других людей, которые знали и встречались со мной в разное время. У Гартмана, кажется, есть масса материала, собранного из полученных им писем, и он, кажется, готов пожертвовать ими. И все, что угодно, от других, каким бы ошибочным это ни было, за что ни Вы, ни я не понесем ответственности. То, что я добавляю, принадлежит не мне, а взято из нескольких писем, полученных мной от тети. Отдаюсь в Ваши руки и прошу только помнить, что «Мемуары», несомненно, извергнут, подобно вулкану, некоторое количество свежей грязи и пламени. Не будите больше чем нужно спящих собак. Доказательства того, что я никогда не была госпожой Митрович и даже госпожой Блаватской, я унесу с собой в могилу — и это никого не касается. Если бы у меня был муж, чтобы прикрывать и защищать меня, то я могла бы быть Мессалиной по влечению сердца, и никто не посмел бы, кроме как шепотом, сказать ни слова против меня. Когда я думаю, что не защищена от судебного преследования за клевету, потому что написала в частном письме, что женщиной, пославшей подобное письмо Мохини, должно быть, является некая «Потифар», и что в Англии у каждого, кажется, есть законное право открыто и публично обвинять меня в двоемужии, троемужии и проституции, а я не могу сказать ни слова в свою защиту в суде, — у меня возникает намерение послать за порцией мятных леденцов — меня тошнит от омерзения. То презрение и пренебрежение, которое я испытываю к вашей свободной стране с ее хваленым правосудием и справедливостью, невыразимо и неописуемо. Мне хочется попросить российское правительство разрешить мне вернуться, чтобы умереть в каком-нибудь уголке, где меня оставят в покое. Чувство долга по отношению к Учителям — единственное, что мешает мне сделать это. Тот, кто не вмешивается в политику, в России находится в безопасности, а диффамация там сурово наказывается. Каково мое будущее? Что меня ждет впереди из-за ваших миссионеров, злодея по имени Куломб, языков Бибичей, оскверняющих каждого, как только они к нему прикоснутся, из-за всего этого гула и звона вокруг меня? Я не могу вернуться в Индию, пока Куломб находится в Бомбее, а падре вокруг нас, — я только погублю Общество. Не успею я прибыть, как кто-нибудь из них найдет какой-нибудь предлог притащить меня в суд, и тогда — прощай, Общество. Ваши важные персоны из Кембриджа здорово навредили мне благодаря удобным случаям, представившимся им в виде идиотских истошных воплей Олькотта, трусости людей и многого другого. Я — принадлежность прошлого, жалко выглядящее существо, неописуемо замаранное. И нет мне ни помощи, ни спасенья. Постарайтесь защитить себя и предоставьте меня моей теперешней судьбе. А посему я ничего не напишу ни об «инциденте с Митровичем», ни о каких других инцидентах подобного рода, где замешаны политика и тайны умерших людей. Это мое последнее и окончательное решение. Если Вы можете сделать «Мемуары» интересными в каком-нибудь другом отношении, делайте, а я помогу. Всё, что хотите, после 1875 года. С тех пор моя жизнь стала общедоступной и открытой, и, исключая часы сна, я никогда не бывала одна. Я ручаюсь, что всему миру не доказать ни одного из обвинений, выдвинутых против меня за это время. Что же касается феноменов — если бы до того дня я была непорочной девой Марией — то было бы то же самое. Это всё наша вина. Моя, Олькотта, Ваша, Дамодара, всех, даже Учителей, которые наблюдали и — допускали это. Мы не можем рассчитывать вечно развеваться ярко-красной тряпкой перед быком, а затем жаловаться, что он подстрекает нас на это. И, как в данном случае, это худшая разновидность быка — ваш «Джон Булл»[10]. Конечно, мы потерпели поражение. Очень прошу извинить мою прямоту и длинное письмо. С совершенным почтением, Е.П.Блаватская.
[1] Лупанарий — дом терпимости. [2] Тепидарий — теплая ванна в римской бане. [3] Авичи (санскр.) — букв. «непрерывный ад» на Земле. [4] Вероятно, Е.П.Блаватская имеет в виду мисс Ф.Арундейл. [5] Панург (греч. букв. плут, ловкач) — центральный персонаж романа Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Бродяга, знающий 63 способа добывания денег. [6] Фактотум (лат. букв. делай всё) — правая рука, доверенное лицо. [7] «В Индии ... старая обезьяна». — Имитация почерка Ходжсона, осажденная Е.П.Блаватской синим карандашом. [8] Всё это письмо написано почерком Е.П.Блаватской, но не подписано ею. [9] С сердечнейшим приветом вам обоим от — Д.Н[атха]. — Эта приписка сделана почерком Бабаджи. [10] Булл — Bull, по-английски — бык.
|
